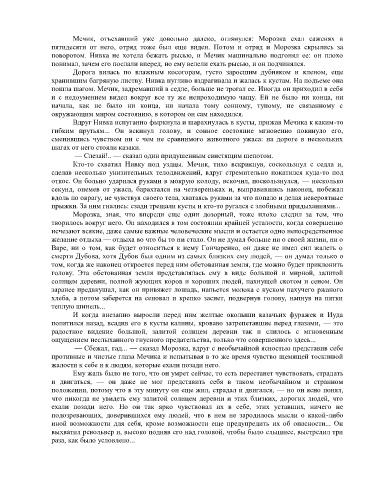Page 86 - Разгром
P. 86
Мечик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся: Морозка ехал саженях в
пятидесяти от него, отряд тоже был еще виден. Потом и отряд и Морозка скрылись за
поворотом. Нивка не хотела бежать рысью, и Мечик машинально подгонял ее: он плохо
понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся.
Дорога вилась по влажным косогорам, густо заросшим дубняком и кленом, еще
хранившим багряную листву. Нивка пугливо вздрагивала и жалась к кустам. На подъеме она
пошла шагом. Мечик, задремавший в седле, больше не трогал ее. Иногда он приходил в себя
и с недоумением видел вокруг все ту же непроходимую чащу. Ей не было ни конца, ни
начала, как не было ни конца, ни начала тому сонному, тупому, не связанному с
окружающим миром состоянию, в котором он сам находился.
Вдруг Нивка испуганно фыркнула и шарахнулась в кусты, прижав Мечика к каким-то
гибким прутьям... Он вскинул голову, и сонное состояние мгновенно покинуло его,
сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса: на дороге в нескольких
шагах от него стояли казаки.
— Слезай!.. — сказал один придушенным свистящим шепотом.
Кто-то схватил Нивку под уздцы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и,
сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился куда-то под
откос. Он больно ударился руками в мокрую колоду, вскочил, поскользнулся, — несколько
секунд, онемев от ужаса, барахтался на четвереньках и, выправившись наконец, побежал
вдоль по оврагу, не чувствуя своего тела, хватаясь руками за что попало и делая невероятные
прыжки. За ним гнались: сзади трещали кусты и кто-то ругался с злобными придыханиями...
Морозка, зная, что впереди еще один дозорный, тоже плохо следил за тем, что
творилось вокруг него. Он находился в том состоянии крайней усталости, когда совершенно
исчезают всякие, даже самые важные человеческие мысли и остается одно непосредственное
желание отдыха — отдыха во что бы то ни стало. Он не думал больше ни о своей жизни, ни о
Варе, ни о том, как будет относиться к нему Гончаренко, он даже не имел сил жалеть о
смерти Дубова, хотя Дубов был одним из самых близких ему людей, — он думал только о
том, когда же наконец откроется перед ним обетованная земля, где можно будет приклонить
голову. Эта обетованная земля представлялась ему в виде большой и мирной, залитой
солнцем деревни, полной жующих коров и хороших людей, пахнущей скотом и сеном. Он
заранее предвкушал, как он привяжет лошадь, напьется молока с куском пахучего ржаного
хлеба, а потом заберется на сеновал и крепко заснет, подвернув голову, напнув на пятки
теплую шинель...
И когда внезапно выросли перед ним желтые околыши казачьих фуражек и Иуда
попятился назад, всадив его в кусты калины, кроваво затрепетавшие перед глазами, — это
радостное видение большой, залитой солнцем деревни так и слилось с мгновенным
ощущением неслыханного гнусного предательства, только что совершенного здесь...
— Сбежал, гад... — сказал Морозка, вдруг с необычайной ясностью представив себе
противные и чистые глаза Мечика и испытывая в то же время чувство щемящей тоскливой
жалости к себе и к людям, которые ехали позади него.
Ему жаль было не того, что он умрет сейчас, то есть перестанет чувствовать, страдать
и двигаться, — он даже не мог представить себя в таком необычайном и странном
положении, потому что в эту минуту он еще жил, страдал и двигался, — но он ясно понял,
что никогда не увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близких, дорогих людей, что
ехали позади него. Но он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших, ничего не
подозревающих, доверившихся ему людей, что в нем не зародилось мысли о какой-либо
иной возможности для себя, кроме возможности еще предупредить их об опасности... Он
выхватил револьвер и, высоко подняв его над головой, чтобы было слышнее, выстрелил три
раза, как было условлено...