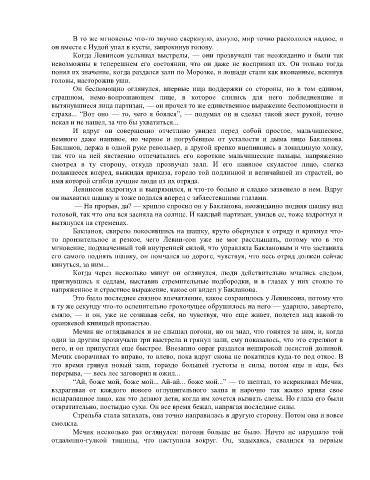Page 87 - Разгром
P. 87
В то же мгновенье что-то звучно сверкнуло, ахнуло, мир точно раскололся надвое, и
он вместе с Иудой упал в кусты, запрокинув голову.
Когда Левинсон услышал выстрелы, — они прозвучали так неожиданно и были так
невозможны в теперешнем его состоянии, что он даже не воспринял их. Он только тогда
понял их значение, когда раздался залп по Морозке, и лошади стали как вкопанные, вскинув
головы, насторожив уши.
Он беспомощно оглянулся, впервые ища поддержки со стороны, но в том едином,
страшном, немо-вопрошающем лице, в которое слились для него побледневшие и
вытянувшиеся лица партизан, — он прочел то же единственное выражение беспомощности и
страха... “Вот оно — то, чего я боялся”, — подумал он и сделал такой жест рукой, точно
искал и не нашел, за что бы ухватиться...
И вдруг он совершенно отчетливо увидел перед собой простое, мальчишеское,
немного даже наивное, но черное и погрубевшее от усталости и дыма лицо Бакланова.
Бакланов, держа в одной руке револьвер, а другой крепко вцепившись в лошадиную холку,
так что на ней явственно отпечатались его короткие мальчишеские пальцы, напряженно
смотрел в ту сторону, откуда прозвучал залп. И его наивное скуластое лицо, слегка
подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той подлинной и величайшей из страстей, во
имя которой сгибли лучшие люди из их отряда.
Левинсон вздрогнул и выпрямился, и что-то больно и сладко зазвенело в нем. Вдруг
он выхватил шашку и тоже подался вперед с заблестевшими глазами.
— На прорыв, да? — хрипло спросил он у Бакланова, неожиданно подняв шашку над
головой, так что она вся засияла на солнце. И каждый партизан, увидев ее, тоже вздрогнул и
вытянулся на стременах.
Бакланов, свирепо покосившись на шашку, круто обернулся к отряду и крикнул что-
то пронзительное и резкое, чего Левин-сон уже не мог расслышать, потому что в это
мгновение, подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклановым и что заставила
его самого поднять шашку, он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас
кинуться, за ним...
Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом,
пригнувшись к седлам, выставив стремительные подбородки, и в глазах у них стояло то
напряженное и страстное выражение, какое он видел у Бакланова.
Это было последнее связное впечатление, какое сохранилось у Левинсона, потому что
в ту же секунду что-то ослепительно грохочущее обрушилось на него — ударило, завертело,
смяло, — и он, уже не сознавая себя, но чувствуя, что еще живет, полетел над какой-то
оранжевой кипящей пропастью.
Мечик не оглядывался и не слышал погони, но он знал, что гонятся за ним, и, когда
один за другим прозвучали три выстрела и грянул залп, ему показалось, что это стреляют в
него, и он припустил еще быстрее. Внезапно овраг раздался неширокой лесистой долиной.
Мечик сворачивал то вправо, то влево, пока вдруг снова не покатился куда-то под откос. В
это время грянул новый залп, гораздо большей густоты и силы, потом еще и еще, без
перерыва, — весь лес заговорил и ожил...
“Ай, боже мой, боже мой... Ай-ай... боже мой...” — то шептал, то вскрикивал Мечик,
вздрагивая от каждого нового оглушительного залпа и нарочно так жалко кривя свое
исцарапанное лицо, как это делают дети, когда им хочется вызвать слезы. Но глаза его были
отвратительно, постыдно сухи. Он все время бежал, напрягая последние силы.
Стрельба стала затихать, она точно направилась в другую сторону. Потом она и вовсе
смолкла.
Мечик несколько раз оглянулся: погони больше не было. Ничто не нарушало той
отдаленно-гулкой тишины, что наступила вокруг. Он, задыхаясь, свалился за первым