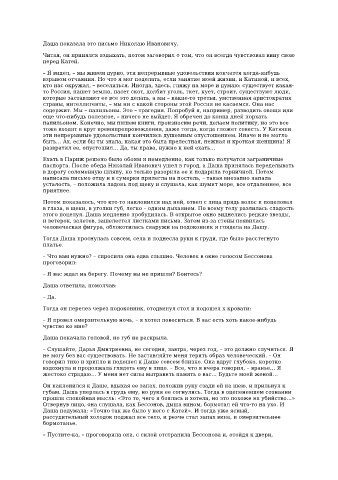Page 66 - Хождение по мукам. Сёстры
P. 66
Даша показала это письмо Николаю Ивановичу.
Читая, он принялся вздыхать, потом заговорил о том, что он всегда чувствовал вину свою
перед Катей.
– Я видел, – мы живем дурно, эти непрерывные удовольствия кончатся когда-нибудь
взрывом отчаяния. Но что я мог поделать, если занятие моей жизни, и Катиной, и всех,
кто нас окружал, – веселиться. Иногда, здесь, гляжу на море и думаю: существует какая-
то Россия, пашет землю, пасет скот, долбит уголь, ткет, кует, строит, существуют люди,
которые заставляют ее все это делать, а мы – какие-то третьи, умственная аристократия
страны, интеллигенты, – мы ни с какой стороны этой России не касаемся. Она нас
содержит. Мы – папильоны. Это – трагедия. Попробуй я, например, разводить овощи или
еще что-нибудь полезное, – ничего не выйдет. Я обречен до конца дней порхать
папильоном. Конечно, мы пишем книги, произносим речи, делаем политику, но это все
тоже входит в круг времяпрепровождения, даже тогда, когда гложет совесть. У Катюши
эти непрерывные удовольствия кончились душевным опустошением. Иначе и не могло
быть… Ах, если бы ты знала, какая это была прелестная, нежная и кроткая женщина! Я
развратил ее, опустошил… Да, ты права, нужно к ней ехать…
Ехать в Париж решено было обоим и немедленно, как только получатся заграничные
паспорта. После обеда Николай Иванович ушел в город, а Даша принялась переделывать
в дорогу соломенную шляпу, но только разорила ее и подарила горничной. Потом
написала письмо отцу и в сумерки прилегла на постель, – такая внезапно напала
усталость, – положила ладонь под щеку и слушала, как шумит море, все отдаленнее, все
приятнее.
Потом показалось, что кто-то наклонился над ней, отвел с лица прядь волос и поцеловал
в глаза, в щеки, в уголки губ, легко – одним дыханием. По всему телу разлилась сладость
этого поцелуя. Даша медленно пробудилась. В открытое окно виднелись редкие звезды,
и ветерок, залетев, зашелестел листками письма. Затем из-за стены появилась
человеческая фигура, облокотилась снаружи на подоконник и глядела на Дашу.
Тогда Даша проснулась совсем, села и поднесла руки к груди, где было расстегнуто
платье.
– Что вам нужно? – спросила она едва слышно. Человек в окне голосом Бессонова
проговорил:
– Я вас ждал на берегу. Почему вы не пришли? Боитесь?
Даша ответила, помолчав:
– Да.
Тогда он перелез через подоконник, отодвинул стол и подошел к кровати:
– Я провел омерзительную ночь, – я хотел повеситься. В вас есть хоть какое-нибудь
чувство ко мне?
Даша покачала головой, но губ не раскрыла.
– Слушайте, Дарья Дмитриевна, не сегодня, завтра, через год, – это должно случиться. Я
не могу без вас существовать. Не заставляйте меня терять образ человеческий. – Он
говорил тихо и хрипло и подошел к Даше совсем близко. Она вдруг глубоко, коротко
вздохнула и продолжала глядеть ему в лицо. – Все, что я вчера говорил, – вранье… Я
жестоко страдаю… У меня нет силы вытравить память о вас… Будьте моей женой…
Он наклонился к Даше, вдыхая ее запах, положив руку сзади ей на шею, и прильнул к
губам. Даша уперлась в грудь ему, но руки ее согнулись. Тогда в оцепеневшем сознании
прошла спокойная мысль: «Это то, чего я боялась и хотела, но это похоже на убийство…»
Отвернув лицо, она слушала, как Бессонов, дыша вином, бормотал ей что-то на ухо. И
Даша подумала: «Точно так же было у него с Катей». И тогда уже ясный,
рассудительный холодок поджал все тело, и резче стал запах вина, и омерзительнее
бормотанье.
– Пустите-ка, – проговорила она, с силой отстранила Бессонова и, отойдя к двери,