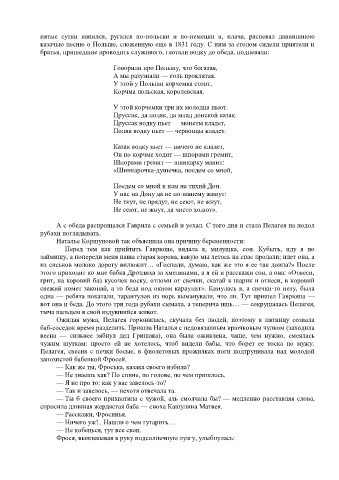Page 107 - Тихий Дон
P. 107
пятые сутки напился, ругался по-польски и по-немецки и, плача, распевал давнишнюю
казачью песню о Польше, сложенную еще в 1831 году. С ним за столом сидели приятели и
братья, пришедшие проводить служивого, глотали водку до обеда, подпевали:
Говорили про Польшу, что богатая,
А мы разузнали — голь проклятая.
У этой у Польши корчемка стоит,
Корчма польская, королевская.
У этой корчемки три их молодца пьют.
Пруссак, да поляк, да млад донской казак.
Пруссак водку пьет — монеты кладет,
Поляк водку пьет — червонцы кладет.
Казак водку пьет — ничего не кладет,
Он по корчме ходит — шпорами гремит,
Шпорами гремит — шинкарку манит:
«Шинкарочка-душечка, поедем со мной,
Поедем со мной к нам на тихий Дон.
У нас на Дону да не по-вашему живут:
Не ткут, не прядут, не сеют, не жнут,
Не сеют, не жнут, да чисто ходют».
А с обеда распрощался Гаврила с семьей и уехал. С того дня и стала Пелагея на подол
рубахи поглядывать.
Наталье Коршуновой так объяснила она причину беременности:
— Перед тем как прийтить Гаврюше, видала я, милушка, сон. Кубыть, иду я по
займищу, а попереди меня наша старая корова, какую мы летось на спас продали; идет она, а
из сиськов молоко дорогу вилюжит… «Господи, думаю, как же это я ее так доила?» После
этого приходит ко мне бабка Дроздиха за хмелинами, а я ей и расскажи сон, а она: «Отнеси,
грит, на коровий баз кусочек воску, отломи от свечки, скатай в шарик и отнеси, в коровий
свежий помет закопай, а то беда под окном караулит». Кинулась я, а свечки-то нету, была
одна — ребята покатали, тарантулов из норь выманували, что ли. Тут пришел Гаврюша —
вот она и беда. До этого три года рубахи сымала, а теперича ишь… — сокрушалась Пелагея,
тыча пальцем в свой вздувшийся живот.
Ожидая мужа, Пелагея горюнилась, скучала без людей, поэтому в пятницу созвала
баб-соседок время разделить. Пришла Наталья с недовязанным крючковым чулком (заходила
весна — сильнее зябнул дед Гришака), она была оживлена, чаще, чем нужно, смеялась
чужим шуткам: просто ей не хотелось, чтоб видели бабы, что борет ее тоска по мужу.
Пелагея, свесив с печки босые, в фиолетовых прожилках ноги подтрунивала над молодой
занозистой бабенкой Фросей.
— Как же ты, Фроська, казака своего избила?
— Не знаешь как? По спине, по голове, по чем пришлось.
— Я не про то: как у вас завелось-то?
— Так и завелось, — нехотя отвечала та.
— Ты б своего прихватила с чужой, аль смолчала бы? — медленно расставляя слова,
спросила длинная жердястая баба — сноха Кашулина Матвея.
— Расскажи, Фросинья.
— Ничего уж!.. Нашли о чем гутарить…
— Не кобенься, тут все свои.
Фрося, выплевывая в руку подсолнечную лузгу, улыбнулась: