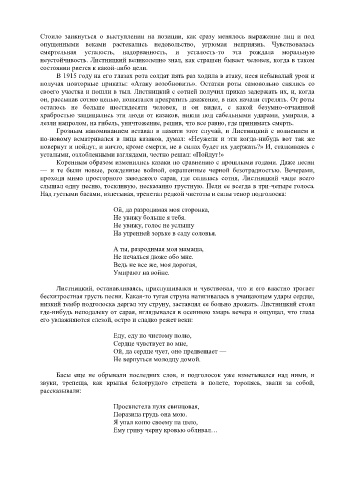Page 220 - Тихий Дон
P. 220
Стоило заикнуться о выступлении на позиции, как сразу менялось выражение лиц и под
опущенными веками растекались недовольство, угрюмая неприязнь. Чувствовалась
смертельная усталость, надорванность, и усталость-то эта рождала моральную
неустойчивость. Листницкий великолепно знал, как страшен бывает человек, когда в таком
состоянии рвется к какой-либо цели.
В 1915 году на его глазах рота солдат пять раз ходила в атаку, неся небывалый урон и
получая повторные приказы: «Атаку возобновить». Остатки роты самовольно снялись со
своего участка и пошли в тыл. Листницкий с сотней получил приказ задержать их, и, когда
он, рассыпав сотню цепью, попытался прекратить движение, в них начали стрелять. От роты
осталось не больше шестидесяти человек, и он видел, с какой безумно-отчаянной
храбростью защищались эти люди от казаков, никли под сабельными ударами, умирали, а
лезли напролом, на гибель, уничтожение, решив, что все равно, где принимать смерть.
Грозным напоминанием вставал в памяти этот случай, и Листницкий с волнением и
по-новому всматривался в лица казаков, думал: «Неужели и эти когда-нибудь вот так же
повернут и пойдут, и ничто, кроме смерти, не в силах будет их удержать?» И, сталкиваясь с
усталыми, озлобленными взглядами, честно решал: «Пойдут!»
Коренным образом изменились казаки по сравнению с прошлыми годами. Даже песни
— и те были новые, рожденные войной, окрашенные черной безотрадностью. Вечерами,
проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Листницкий чаще всего
слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в три-четыре голоса.
Над густыми басами, взлетывая, трепетал редкой чистоты и силы тенор подголоска:
Ой, да разродимая моя сторонка,
Не увижу больше я тебя.
Не увижу, голос не услышу
На утренней зорьке в саду соловья.
А ты, разродимая моя мамаша,
Не печалься дюже обо мне.
Ведь не все же, моя дорогая,
Умирают на войне.
Листницкий, останавливаясь, прислушивался и чувствовал, что и его властно трогает
бесхитростная грусть песни. Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердце,
низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставлял ее больно дрожать. Листницкий стоял
где-нибудь неподалеку от сарая, вглядывался в осеннюю хмарь вечера и ощущал, что глаза
его увлажняются слезой, остро и сладко режет веки:
Еду, еду по чистому полю,
Сердце чувствует во мне,
Ой, да сердце чует, оно предвещает —
Не вернуться молодцу домой.
Басы еще не обрывали последних слов, и подголосок уже взметывался над ними, и
звуки, трепеща, как крылья белогрудого стрепета в полете, торопясь, звали за собой,
рассказывали:
Просвистела пуля свинцовая,
Поразила грудь она мою.
Я упал коню своему на шею,
Ему гриву черну кровью обливал…