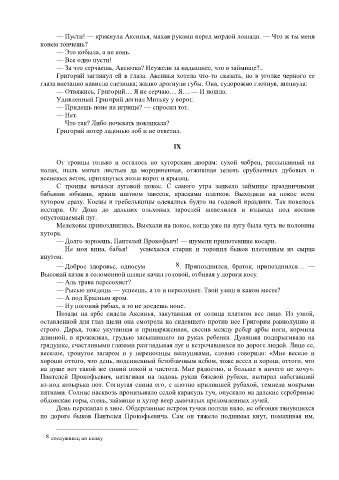Page 23 - Тихий Дон
P. 23
— Пусти! — крикнула Аксинья, махая руками перед мордой лошади. — Что ж ты меня
конем топчешь?
— Это кобыла, а не конь.
— Все одно пусти!
— За что серчаешь, Аксютка? Неужели за надышнее, что в займище?..
Григорий заглянул ей в глаза. Аксинья хотела что-то сказать, но в уголке черного ее
глаза внезапно нависла слезинка; жалко дрогнули губы. Она, судорожно глотнув, шепнула:
— Отвяжись, Григорий… Я не серчаю… Я… — И пошла.
Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот.
— Придешь ноне на игрище? — спросил тот.
— Нет.
— Что так? Либо ночевать покликала?
Григорий потер ладонью лоб и не ответил.
IX
От троицы только и осталось по хуторским дворам: сухой чабрец, рассыпанный на
полах, пыль мятых листьев да морщиненная, отжившая зелень срубленных дубовых и
ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец.
С троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными
бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков. Выходили на покос всем
хутором сразу. Косцы и гребельщицы одевались будто на годовой праздник. Так повелось
исстари. От Дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами
опустошаемый луг.
Мелеховы припозднились. Выехали на покос, когда уже на лугу была чуть не половина
хутора.
— Долго зорюешь, Пантелей Прокофьич! — шумели припотевшие косари.
— Не моя вина, бабья! — усмехался старик и торопил быков плетенным из сырца
кнутом.
8
— Доброе здоровье, односум . Припозднился, браток, припозднился… —
Высокий казак в соломенной шляпе качал головой, отбивая у дороги косу.
— Аль трава пересохнет?
— Рысью поедешь — успеешь, а то и пересохнет. Твой улеш в каком месте?
— А под Красным яром.
— Ну погоняй рябых, а то не доедешь ноне.
Позади на арбе сидела Аксинья, закутавшая от солнца платком все лицо. Из узкой,
оставленной для глаз щели она смотрела на сидевшего против нее Григория равнодушно и
строго. Дарья, тоже укутанная и принаряженная, свесив между ребер арбы ноги, кормила
длинной, в прожилках, грудью засыпавшего на руках ребенка. Дуняшка подпрыгивала на
грядушке, счастливыми глазами разглядывая луг и встречавшихся по дороге людей. Лицо ее,
веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и
хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что
на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я ничего не хочу».
Пантелей Прокофьевич, натягивая на ладонь рукав бязевой рубахи, вытирал набегавший
из-под козырька пот. Согнутая спина его, с плотно прилипшей рубахой, темнела мокрыми
пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие серебряные
обдонские горы, степь, займище и хутор веер дымчатых преломленных лучей.
День перекипал в зное. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся
по дороге быков Пантелея Прокофьевича. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивая им,
8 сослуживец по полку