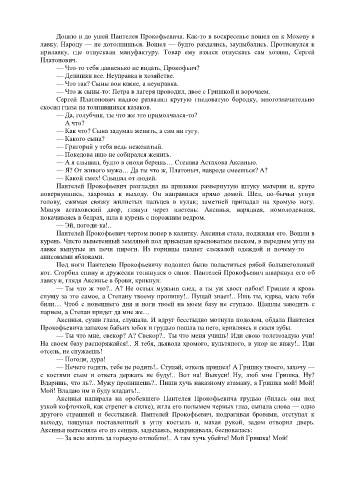Page 26 - Тихий Дон
P. 26
Дошло и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье пошел он к Мохову в
лавку. Народу — не дотолпишься. Вошел — будто раздались, заулыбались. Протиснулся к
прилавку, где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать сам хозяин, Сергей
Платонович.
— Что-то тебя давненько не видать, Прокофьич?
— Делишки все. Неуправка в хозяйстве.
— Что так? Сыны вон какие, а неуправка.
— Что ж сыны-то: Петра в лагеря проводил, двое с Гришкой и ворочаем.
Сергей Платонович надвое развалил крутую гнедоватую бородку, многозначительно
скосил глаза на толпившихся казаков.
— Да, голубчик, ты что же это примолчался-то?
— А что?
— Как что? Сына задумал женить, а сам ни гугу.
— Какого сына?
— Григорий у тебя ведь неженатый.
— Покедова ишо не собирался женить.
— А я слышал, будто в снохи берешь… Степана Астахова Аксинью.
— Я? От живого мужа… Да ты что ж, Платоныч, навроде смеешься? А?
— Какой смех! Слышал от людей.
Пантелей Прокофьевич разгладил на прилавке развернутую штуку материи и, круто
повернувшись, захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел, по-бычьи угнув
голову, сжимая связку жилистых пальцев в кулак; заметней припадал на хромую ногу.
Минуя астаховский двор, глянул через плетень: Аксинья, нарядная, помолодевшая,
покачиваясь в бедрах, шла в курень с порожним ведром.
— Эй, погоди-ка!..
Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в
курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватым песком, в переднем углу на
лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой одеждой и почему-то —
анисовыми яблоками.
Под ноги Пантелею Прокофьевичу подошел было поластиться рябой большеголовый
кот. Сгорбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич шваркнул его об
лавку и, глядя Аксинье в брови, крикнул:
— Ты что ж это?.. А? Не остыл мужьин след, а ты уж хвост набок! Гришке я кровь
спущу за это самое, а Степану твоему пропишу!.. Пущай знает!.. Ишь ты, курва, мало тебя
били… Чтоб с нонешнего дня и ноги твоей на моем базу не ступало. Шашлы заводить с
парнем, а Степан придет да мне же…
Аксинья, сузив глаза, слушала. И вдруг бесстыдно мотнула подолом, обдала Пантелея
Прокофьевича запахом бабьих юбок и грудью пошла на него, кривляясь и скаля зубы.
— Ты что мне, свекор? А? Свекор?.. Ты что меня учишь! Иди свою толстозадую учи!
На своем базу распоряжайся!.. Я тебя, дьявола хромого, культяпого, в упор не вижу!.. Иди
отсель, не спужаешь!
— Погоди, дура!
— Нечего годить, тебе не родить!.. Ступай, откель пришел! А Гришку твоего, захочу —
с костями съем и ответа держать не буду!.. Вот на! Выкуси! Ну, люб мне Гришка. Ну?
Вдаришь, что ль?.. Мужу пропишешь?.. Пиши хучь наказному атаману, а Гришка мой! Мой!
Мой! Владаю им и буду владать!..
Аксинья напирала на оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью (билась она под
узкой кофточкой, как стрепет в силке), жгла его полымем черных глаз, сыпала слова — одно
другого страшней и бесстыжей. Пантелей Прокофьевич, подрагивая бровями, отступал к
выходу, нащупал поставленный в углу костыль и, махая рукой, задом отворил дверь.
Аксинья вытесняла его из сенцев, задыхаясь, выкрикивала, бесновалась:
— За всю жизнь за горькую отлюблю!.. А там хучь убейте! Мой Гришка! Мой!