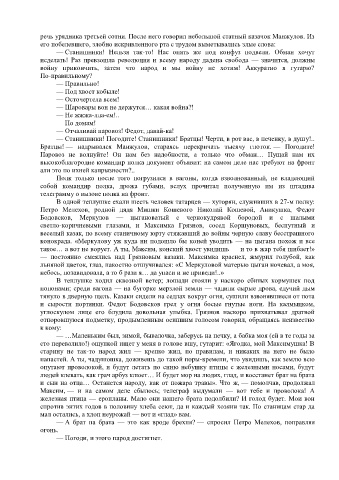Page 255 - Тихий Дон
P. 255
речь урядника третьей сотни. После него говорил небольшой статный казачок Манжулов. Из
его побелевшего, злобно искривленного рта с трудом выметывались злые слова:
— Станишники! Нельзя так-то! Нас опять же под конфуз подвели. Обман хочут
исделать! Раз превзошла революция и всему народу дадена свобода — значится, должны
войну прикончить, затем что народ и мы войну не хотим! Аккуратно я гутарю?
По-правильному?
— Правильно!
— Под хвост кобыле!
— Осточертела всем!
— Шаровары вон не держутся… какая война?!
— Не жжжа-лла-ем!..
— По домам!
— Отчаливай паровоз! Федот, давай-ка!
— Станишники! Погодите! Станишники! Братцы! Черти, в рот вас, в печенку, в душу!..
Братцы! — надрывался Манжулов, стараясь перекричать тысячу глоток. — Погодите!
Паровоз не волнуйте! Он нам без надобности, а только что обман… Пущай нам их
высокоблагородие командир полка документ объявит: на самом деле нас требуют на фронт
али это по ихней капрызности?..
Полк только после того погрузился в вагоны, когда взволнованный, не владеющий
собой командир полка, дрожа губами, вслух прочитал полученную им из штадива
телеграмму о вызове полка на фронт.
В одной теплушке ехали шесть человек татарцев — хуторян, служивших в 27-м полку:
Петро Мелехов, родной дядя Мишки Кошевого Николай Кошевой, Аникушка, Федот
Бодовсков, Меркулов — цыгановатый с чернокудрявой бородой и с шалыми
светло-коричневыми глазами, и Максимка Грязнов, сосед Коршуновых, беспутный и
веселый казак, по всему станичному юрту стяжавший до войны черную славу бесстрашного
конокрада. «Меркулову уж куда ни подошло бы коней уводить — на цыгана похож и все
такое… а вот не ворует. А ты, Максим, конский хвост увидишь — и то в жар тебя шибает!»
— постоянно смеялись над Грязновым казаки. Максимка краснел, жмурил голубой, как
льняной цветок, глаз, пакостно отшучивался: «С Меркуловой матерью цыган ночевал, а моя,
небось, позавидовала, а то б рази я… да упаси и не приведи!..»
В теплушке ходил сквозной ветер; лошади стояли у наскоро сбитых кормушек под
попонами; среди вагона — на бугорке мерзлой земли — чадили сырые дрова, едучий дым
тянуло в дверную щель. Казаки сидели на седлах вокруг огня, сушили взвонявшиеся от пота
и сырости портянки. Федот Бодовсков грел у огня босые гнутые ноги. На калмыцком,
углоскулом лице его блудила довольная улыбка. Грязнов наскоро прихватывал дратвой
отпоровшуюся подметку, продымленным осипшим голосом говорил, обращаясь неизвестно
к кому:
— …Маленьким был, зимой, бывалочка, заберусь на печку, а бабка моя (ей в те годы за
сто перевалило!) ощупкой ищет у меня в голове вшу, гутарит: «Ягодка, мой Максимушка! В
старину не так-то народ жил — крепко жил, по правилам, и никаких на него не было
напастей. А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры-времени, что увидишь, как землю всю
опутают проволокой, и будут летать по синю небушку птицы с железными носами, будут
людей клевать, как грач арбуз клюет… И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата
и сын на отца… Останется народу, как от пожара травы». Что ж, — помолчав, продолжал
Максим, — и на самом деле сбылось; телеграф выдумали — вот тебе и проволока! А
железная птица — еропланы. Мало они нашего брата подолбили? И голод будет. Мои вон
спротив энтих годов в половину хлеба сеют, да и каждый хозяин так. По станицам стар да
мал остались, а хлоп неурожай — вот и «глад» вам.
— А брат на брата — это как вроде брехня? — спросил Петро Мелехов, поправляя
огонь.
— Погоди, и этого народ достигнет.