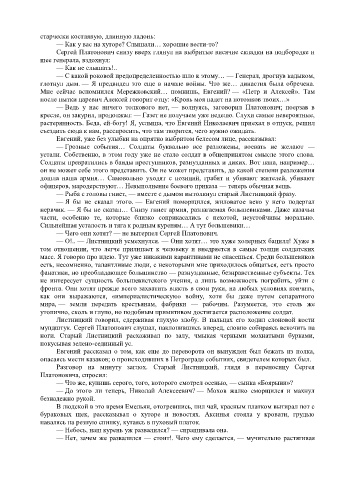Page 252 - Тихий Дон
P. 252
старчески костлявую, длинную ладонь:
— Как у вас на хуторе? Слышали… хорошие вести-то?
Сергей Платонович снизу вверх глянул на выбритые висячие складки на подбородке и
шее генерала, вздохнул:
— Как не слышать!..
— С какой роковой предопределенностью шло к этому… — Генерал, дрогнув кадыком,
глотнул дым. — Я предвидел это еще в начале войны. Что же… династия была обречена.
Мне сейчас вспомнился Мережковский… помнишь, Евгений? — «Петр и Алексей». Там
после пытки царевич Алексей говорит отцу: «Кровь моя падет на потомков твоих…»
— Ведь у нас ничего толкового нет, — волнуясь, заговорил Платонович; поерзав в
кресле, он закурил, продолжал: — Газет не получаем уже неделю. Слухи самые невероятные,
растерянность. Беда, ей-богу! Я, услыша, что Евгений Николаевич приехал в отпуск, решил
съездить сюда к вам, расспросить, что там творится, чего нужно ожидать.
Евгений, уже без улыбки на опрятно выбритом белесом лице, рассказывал:
— Грозные события… Солдаты буквально все разложены, воевать не желают —
устали. Собственно, в этом году уже не стало солдат в общепринятом смысле этого слова.
Солдаты превратились в банды преступников, разнузданных и диких. Вот папа, например…
он не может себе этого представить. Он не может представить, до какой степени разложения
дошла наша армия… Самовольно уходят с позиций, грабят и убивают жителей, убивают
офицеров, мародерствуют… Невыполнение боевого приказа — теперь обычная вещь.
— Рыба с головы гниет, — вместе с дымом вытолкнул старый Листницкий фразу.
— Я бы не сказал этого. — Евгений поморщился, жиловатое веко у него подергал
нервчик. — Я бы не сказал… Снизу гниет армия, разлагаемая большевиками. Даже казачьи
части, особенно те, которые близко соприкасались с пехотой, неустойчивы морально.
Сильнейшая усталость и тяга к родным куреням… А тут большевики…
— Чего они хотят? — не вытерпел Сергей Платонович.
— О!.. — Листницкий усмехнулся. — Они хотят… это хуже холерных бацилл! Хуже в
том отношении, что легче прилипает к человеку и внедряется в самые толщи солдатских
масс. Я говорю про идею. Тут уже никакими карантинами не спасешься. Среди большевиков
есть, несомненно, талантливые люди, с некоторыми мне приходилось общаться, есть просто
фанатики, но преобладающее большинство — разнузданные, безнравственные субъекты. Тех
не интересует сущность большевистского учения, а лишь возможность пограбить, уйти с
фронта. Они хотят прежде всего захватить власть в свои руки, на любых условиях кончить,
как они выражаются, «империалистическую» войну, хотя бы даже путем сепаратного
мира, — земли передать крестьянам, фабрики — рабочим. Разумеется, это столь же
утопично, сколь и глупо, но подобным примитивом достигается расположение солдат.
Листницкий говорил, сдерживая глухую злобу. В пальцах его ходил слоновой кости
мундштук. Сергей Платонович слушал, наклонившись вперед, словно собираясь вскочить на
ноги. Старый Листницкий расхаживал по залу, чмыкая черными мохнатыми бурками,
покусывая зелено-сединный ус.
Евгений рассказал о том, как еще до переворота он вынужден был бежать из полка,
опасаясь мести казаков; о происходивших в Петрограде событиях, свидетелем которых был.
Разговор на минуту заглох. Старый Листницкий, глядя в переносицу Сергея
Платоновича, спросил:
— Что же, купишь серого, того, которого смотрел осенью, — сынка «Боярыни»?
— До этого ли теперь, Николай Алексеевич? — Мохов жалко сморщился и махнул
безнадежно рукой.
В людской в это время Емельян, отогревшись, пил чай, красным платком вытирал пот с
бураковых щек, рассказывал о хуторе и новостях. Аксинья стояла у кровати, грудью
навалясь на резную спинку, кутаясь в пуховый платок.
— Небось, наш курень уж развалился? — спрашивала она.
— Нет, зачем же развалился — стоит!. Чего ему сделается, — мучительно растягивая