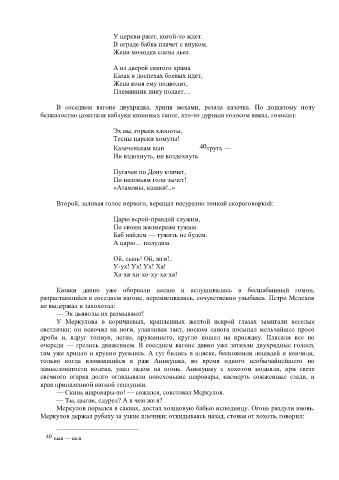Page 257 - Тихий Дон
P. 257
У церкви ржет, когой-то ждет.
В ограде бабка плачет с внуком.
Жена-молодка слезы льет.
А из дверей святого храма
Казак в доспехах боевых идет,
Жена коня ему подводит,
Племянник пику подает…
В соседнем вагоне двухрядка, хрипя мехами, резала казачка. По дощатому полу
безжалостно цокотали каблуки казенных сапог, кто-то дурным голосом вякал, голосил:
Эх вы, горьки хлопоты,
Тесны царски хомуты!
Каэаченькам выи 40 труть —
Ни вздохнуть, ни воздохнуть.
Пугачев по Дону кличет,
По низовьям голи зычет!
«Атаманы, казаки!..»
Второй, заливая голос первого, верещал несуразно тонкой скороговоркой:
Царю верой-правдой служим,
По своим жалмеркам тужим.
Баб найдем — тужить не будем.
А царю… полудим.
Ой, сыпь! Ой, жги!..
У-ух! Ух! Ух! Ха!
Ха-ха-хи-хо-ху-ха-ха!
Казаки давно уже оборвали песню и вслушивались в бесшабашный гомон,
разраставшийся в соседнем вагоне, перемигивались, сочувственно улыбаясь. Петро Мелехов
не выдержал и захохотал:
— Эк дьяволы их размывают!
У Меркулова в коричневых, крапленных желтой искрой глазах замигали веселые
светлячки; он вскочил на ноги, улавливая такт, носком сапога посыпал мельчайшее просо
дроби и, вдруг топнув, легко, пружинисто, кругло пошел на присядку. Плясали все по
очереди — грелись движением. В соседнем вагоне давно уже затихли двухрядные голоса,
там уже хрипло и крупно ругались. А тут бились в пляске, беспокоили лошадей и кончили,
только когда вломавшийся в раж Аникушка, во время одного необычайнейшего по
замысловатости колена, упал задом на огонь. Аникушку с хохотом подняли, при свете
свечного огарка долго оглядывали новехонькие шаровары, насмерть сожженные сзади, и
края припаленной ватной теплушки.
— Скинь шаровары-то! — сожалея, советовал Меркулов.
— Ты, цыган, сдурел? А в чем же я?
Меркулов порылся в саквах, достал холщовую бабью исподницу. Огонь раздули вновь.
Меркулов держал рубаху за узкие плечики; откидываясь назад, стоная от хохота, говорил:
40 выя — шея