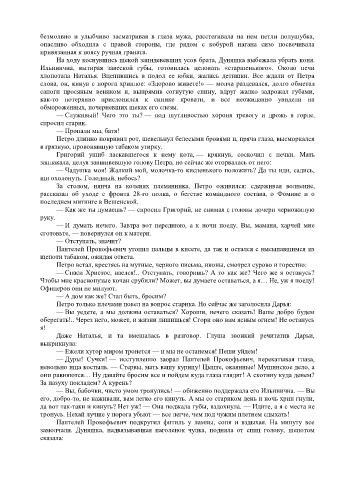Page 471 - Тихий Дон
P. 471
безмолвно и улыбчиво засматривая в глаза мужа, расстегивала на нем петли полушубка,
опасливо обходила с правой стороны, где рядом с кобурой нагана сизо посвечивала
привязанная к поясу ручная граната.
На ходу коснувшись щекой заиндевевших усов брата, Дуняшка выбежала убрать коня.
Ильинична, вытирая завеской губы, готовилась целовать «старшенького». Около печи
хлопотала Наталья. Вцепившись в подол ее юбки, жались детишки. Все ждали от Петра
слова, он, кинув с порога хриплое: «Здорово живете!» — молча раздевался, долго обметал
сапоги просяным веником и, выпрямив согнутую спину, вдруг жалко задрожал губами,
как-то потерянно прислонился к спинке кровати, и все неожиданно увидели на
обмороженных, почерневших щеках его слезы.
— Служивый! Чего это ты? — под шутливостью хороня тревогу и дрожь в горле,
спросил старик.
— Пропали мы, батя!
Петро длинно покривил рот, шевельнул белесыми бровями и, пряча глаза, высморкался
в грязную, провонявшую табаком утирку.
Григорий ушиб ласкавшегося к нему кота, — крякнув, соскочил с печки. Мать
заплакала, целуя завшивевшую голову Петра, но сейчас же оторвалась от него:
— Чадушка моя! Жалкий мой, молочка-то кисленького положить? Да ты иди, садись,
щи охолонуть. Голодный, небось?
За столом, нянча на коленях племянника, Петро оживился: сдерживая волнение,
рассказал об уходе с фронта 28-го полка, о бегстве командного состава, о Фомине и о
последнем митинге в Вешенской.
— Как же ты думаешь? — спросил Григорий, не снимая с головы дочери черножилую
руку.
— И думать нечего. Завтра вот переднюю, а к ночи поеду. Вы, маманя, харчей мне
сготовьте, — повернулся он к матери.
— Отступать, значит?
Пантелей Прокофьевич утопил пальцы в кисете, да так и остался с высыпавшимся из
щепоти табаком, ожидая ответа.
Петро встал, крестясь на мутные, черного письма, иконы, смотрел сурово и горестно:
— Спаси Христос, наелся!.. Отступать, говоришь? А то как же? Чего же я останусь?
Чтобы мне краснопузые кочан срубили? Может, вы думаете оставаться, а я… Не, уж я поеду!
Офицеров они не милуют.
— А дом как же? Стал быть, бросим?
Петро только плечами повел на вопрос старика. Но сейчас же заголосила Дарья:
— Вы уедете, а мы должны оставаться? Хороши, нечего сказать! Ваше добро будем
оберегать!.. Через него, может, и жизни лишишься! Сгори оно вам ясным огнем! Не останусь
я!
Даже Наталья, и та вмешалась в разговор. Глуша звонкий речитатив Дарьи,
выкрикнула:
— Ежели хутор миром тронется — и мы не останемся! Пеши уйдем!
— Дуры! Сучки! — исступленно заорал Пантелей Прокофьевич, перекатывая глаза,
невольно ища костыль. — Стервы, мать вашу курицу! Цыцте, окаянные! Мушинское дело, а
они равняются… Ну давайте бросим все и пойдем куда глаза глядят! А скотину куда денем?
За пазуху покладем? А курень?
— Вы, бабочки, чисто умом тронулись! — обиженно поддержала его Ильинична. — Вы
его, добро-то, не наживали, вам легко его кинуть. А мы со стариком день и ночь хрип гнули,
да вот так-таки и кинуть? Нет уж! — Она поджала губы, вздохнула. — Идите, а я с места не
тронусь. Нехай лучше у порога убьют — все легче, чем под чужим плетнем сдыхать!
Пантелей Прокофьевич подкрутил фитиль у лампы, сопя и вздыхая. На минуту все
замолчали. Дуняшка, надвязывавшая паголенок чулка, подняла от спиц голову, шепотом
сказала: