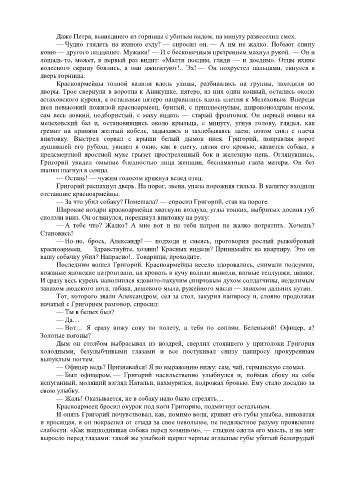Page 478 - Тихий Дон
P. 478
Даже Петра, вышедшего из горницы с убитым видом, на минуту развеселил смех.
— Чудно глядеть на ихнюю езду? — спросил он. — А им не жалко. Побьют спину
коню — другого подцепют. Мужики! — И с бесконечным презрением махнул рукой. — Он и
лошадь-то, может, в первый раз видит: «Малти поедим, гляди — и доедим». Отцы ихние
колесного скрипу боялись, а они джигитуют!.. Эх! — Он похрустел пальцами, ткнулся в
дверь горницы.
Красноармейцы толпой валили вдоль улицы, разбивались на группы, заходили во
дворы. Трое свернули в воротца к Аникушке, пятеро, из них один конный, остались около
астаховского куреня, а остальные пятеро направились вдоль плетня к Мелеховым. Впереди
шел невысокий пожилой красноармеец, бритый, с приплюснутым, широконоздрым носом,
сам весь ловкий, подбористый, с маху видать — старый фронтовик. Он первый вошел на
мелеховский баз и, остановившись около крыльца, с минуту, угнув голову, глядел, как
гремит на привязи желтый кобель, задыхаясь и захлебываясь лаем; потом снял с плеча
винтовку. Выстрел сорвал с крыши белый дымок инея. Григорий, поправляя ворот
душившей его рубахи, увидел в окно, как в снегу, пятня его кровью, катается собака, в
предсмертной яростной муке грызет простреленный бок и железную цепь. Оглянувшись,
Григорий увидел омытые бледностью лица женщин, беспамятные глаза матери. Он без
шапки шагнул в сенцы.
— Оставь! — чужим голосом крикнул вслед отец.
Григорий распахнул дверь. На порог, звеня, упала порожняя гильза. В калитку входили
отставшие красноармейцы.
— За что убил собаку? Помешала? — спросил Григорий, став на пороге.
Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха, углы тонких, выбритых досиня губ
сползли вниз. Он оглянулся, перекинул винтовку на руку:
— А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон не жалко потратить. Хочешь?
Становись!
— Но-но, брось, Александр! — подходя и смеясь, проговорил рослый рыжебровый
красноармеец. — Здравствуйте, хозяин! Красных видали? Принимайте на квартиру. Это он
вашу собачку убил? Напрасно!.. Товарищи, проходите.
Последним вошел Григорий. Красноармейцы весело здоровались, снимали подсумки,
кожаные японские патронташи, на кровать в кучу валили шинели, ватные теплушки, шапки.
И сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым
запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла — запахом дальних путин.
Тот, которого звали Александром, сел за стол, закурил папиросу и, словно продолжая
начатый с Григорием разговор, спросил:
— Ты в белых был?
— Да…
— Вот… Я сразу вижу сову по полету, а тебя по соплям. Беленький! Офицер, а?
Золотые погоны?
Дым он столбом выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у притолоки Григория
холодными, безулыбчивыми глазами и все постукивал снизу папиросу прокуренным
выпуклым ногтем.
— Офицер ведь? Признавайся! Я по выражению вижу: сам, чай, германскую сломал.
— Был офицером, — Григорий насильственно улыбнулся и, поймав сбоку на себе
испуганный, молящий взгляд Натальи, нахмурился, подрожал бровью. Ему стало досадно за
свою улыбку.
— Жаль! Оказывается, не в собаку надо было стрелять…
Красноармеец бросил окурок под ноги Григорию, подмигнул остальным.
И опять Григорий почувствовал, как, помимо воли, кривит его губы улыбка, виноватая
и просящая, и он покраснел от стыда за свое невольное, не подвластное разуму проявление
слабости. «Как нашкодившая собака перед хозяином», — стыдом ожгла его мысль, и на миг
выросло перед глазами: такой же улыбкой щерил черные атласные губы убитый белогрудый