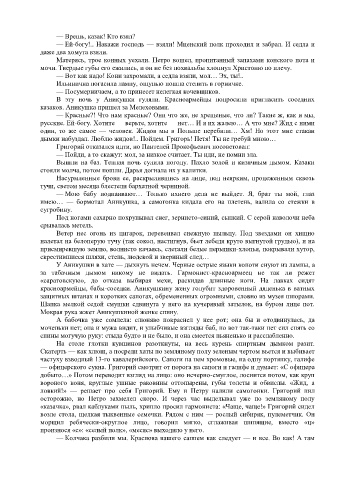Page 483 - Тихий Дон
P. 483
— Врешь, казак! Кто взял?
— Ей-богу!.. Накажи господь — взяли! Мценский полк проходил и забрал. И седла и
даже два хомута взяли.
Матерясь, трое конных уехали. Петро вошел, пропитанный запахами конского пота и
мочи. Твердые губы его ежились, и он не без похвальбы хлопнул Христоню по плечу.
— Вот как надо! Кони захромали, а седла взяли, мол… Эх, ты!..
Ильинична погасила лампу, ощупью пошла стелить в горничке.
— Посумерничаем, а то принесет нелегкая кочевщиков.
В эту ночь у Аникушки гуляли. Красноармейцы попросили пригласить соседних
казаков. Аникушка пришел за Мелеховыми.
— Красные?! Что нам красные? Они что же, не хрещеные, что ли? Такие ж, как и мы,
русские. Ей-богу. Хотите — верьте, хотите — нет… И я их жалею… А что мне? Жид с ними
один, то же самое — человек. Жидов мы в Польше перебили… Хм! Но этот мне стакан
дымки набуздал. Люблю жидов!.. Пойдем. Григорь! Петя! Ты не гребуй мною…
Григорий отказался идти, но Пантелей Прокофьевич посоветовал:
— Пойди, а то скажут: мол, за низкое считает. Ты иди, не помни зла.
Вышли на баз. Теплая ночь сулила погоду. Пахло золой и кизячным дымом. Казаки
стояли молча, потом пошли. Дарья догнала их у калитки.
Насурмленные брови ее, раскрылившись на лице, под неярким, процеженным сквозь
тучи, светом месяца блестели бархатной черниной.
— Мою бабу подпаивают… Только ихнего дела не выйдет. Я, брат ты мой, глаз
имею… — бормотал Аникушка, а самогонка кидала его на плетень, валила со стежки в
сугробину.
Под ногами сахарно похрупывал снег, зернисто-синий, сыпкий. С серой наволочи неба
срывалась метель.
Ветер нес огонь из цигарок, перевеивал снежную пыльцу. Под звездами он хищно
налетал на белоперую тучу (так сокол, настигнув, бьет лебедя круто выгнутой грудью), и на
присмиревшую землю, волнисто качаясь, слетали белые перышки-хлопья, покрывали хутор,
скрестившиеся шляхи, степь, людской и звериный след…
У Аникушки в хате — дыхнуть нечем. Черные острые языки копоти снуют из лампы, а
за табачным дымом никому не видать. Гармонист-красноармеец не так ли режет
«саратовскую», до отказа выбирая мехи, раскидав длинные ноги. На лавках сидят
красноармейцы, бабы-соседки. Аникушкину жену голубит здоровенный дяденька в ватных
защитных штанах и коротких сапогах, обремененных огромными, словно из музея шпорами.
Шапка мелкой седой смушки сдвинута у него на кучерявый затылок, на буром лице пот.
Мокрая рука жжет Аникушкиной женке спину.
А бабочка уже сомлела: слюняво покраснел у нее рот; она бы и отодвинулась, да
моченьки нет; она и мужа видит, и улыбчивые взгляды баб, но вот так-таки нет сил снять со
спины могучую руку: стыда будто и не было, и она смеется пьяненько и расслабленно.
На столе глотки кувшинов разоткнуты, на весь курень спиртным дымком разит.
Скатерть — как хлющ, а посреди хаты по земляному полу зеленым чертом вьется и выбивает
частуху взводный 13-го кавалерийского. Сапоги на нем хромовые, на одну портянку, галифе
— офицерского сукна. Григорий смотрит от порога на сапоги и галифе и думает: «С офицера
добыто…» Потом переводит взгляд на лицо: оно исчерно-смуглое, лоснится потом, как круп
вороного коня, круглые ушные раковины оттопырены, губы толсты и обвислы. «Жид, а
ловкий!» — решает про себя Григорий. Ему и Петру налили самогонки. Григорий пил
осторожно, но Петро захмелел скоро. И через час выделывал уже по земляному полу
«казачка», рвал каблуками пыль, хрипло просил гармониста: «Чаще, чаще!» Григорий сидел
возле стола, щелкая тыквенные семечки. Рядом с ним — рослый сибиряк, пулеметчик. Он
морщил ребячески-округлое лицо, говорил мягко, сглаживая шипящие, вместо «ц»
произнося «с»: «селый полк», «месяс» выходило у него.
— Колчака разбили мы. Краснова вашего сапнем как следует — и все. Во как! А там