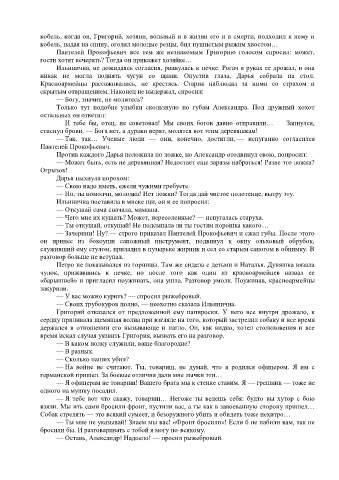Page 479 - Тихий Дон
P. 479
кобель, когда он, Григорий, хозяин, вольный и в жизни его и в смерти, подходил к нему и
кобель, падая на спину, оголял молодые резцы, бил пушистым рыжим хвостом…
Пантелей Прокофьевич все тем же незнакомым Григорию голосом спросил: может,
гости хотят вечерять? Тогда он прикажет хозяйке…
Ильинична, не дожидаясь согласия, рванулась к печке. Рогач в руках ее дрожал, и она
никак не могла поднять чугун со щами. Опустив глаза, Дарья собрала на стол.
Красноармейцы рассаживались, не крестясь. Старик наблюдал за ними со страхом и
скрытым отвращением. Наконец не выдержал, спросил:
— Богу, значит, не молитесь?
Только тут подобие улыбки скользнуло по губам Александра. Под дружный хохот
остальных он ответил:
— И тебе бы, отец, не советовал! Мы своих богов давно отправили… — Запнулся,
стиснул брови. — Бога нет, а дураки верят, молятся вот этим деревяшкам!
— Так, так… Ученые люди — они, конечно, достигли, — испуганно согласился
Пантелей Прокофьевич.
Против каждого Дарья положила по ложке, но Александр отодвинул свою, попросил:
— Может быть, есть не деревянная? Недостает еще заразы набраться! Разве это ложка?
Огрызок!
Дарья пыхнула порохом:
— Свою надо иметь, ежели чужими гребуете.
— Но, ты помолчи, молодка! Нет ложки? Тогда дай чистое полотенце, вытру эту.
Ильинична поставила в миске щи, он и ее попросил:
— Откушай сама сначала, мамаша.
— Чего мне их кушать? Может, пересоленные? — испугалась старуха.
— Ты откушай, откушай! Не подсыпала ли ты гостям порошка какого…
— Зачерпни! Ну? — строго приказал Пантелей Прокофьевич и сжал губы. После этого
он принес из бокоуши сапожный инструмент, подвинул к окну ольховый обрубок,
служивший ему стулом, приладил в пузырьке жирник и сел со старым сапогом в обнимку. В
разговор больше не вступал.
Петро не показывался из горницы. Там же сидела с детьми и Наталья. Дуняшка вязала
чулок, прижавшись к печке, но после того как один из красноармейцев назвал ее
«барышней» и пригласил поужинать, она ушла. Разговор умолк. Поужинав, красноармейцы
закурили.
— У вас можно курить? — спросил рыжебровый.
— Своих трубокуров полно, — неохотно сказала Ильинична.
Григорий отказался от предложенной ему папироски. У него все внутри дрожало, к
сердцу приливала щемящая волна при взгляде на того, который застрелил собаку и все время
держался в отношении его вызывающе и нагло. Он, как видно, хотел столкновения и все
время искал случая уязвить Григория, вызвать его на разговор.
— В каком полку служили, ваше благородие?
— В разных.
— Сколько наших убил?
— На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я родился офицером. Я им с
германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти…
— Я офицерам не товарищ! Вашего брата мы к стенке ставим. Я — грешник — тоже не
одного на мушку посадил.
— Я тебе вот что скажу, товарищ… Негоже ты ведешь себя: будто вы хутор с бою
взяли. Мы ить сами бросили фронт, пустили вас, а ты как в завоеванную сторону пришел…
Собак стрелять — это всякий сумеет, и безоружного убить и обидеть тоже нехитро…
— Ты мне не указывай! Знаем мы вас! «Фронт бросили»! Если б не набили вам, так не
бросили бы. И разговаривать с тобой я могу по-всякому.
— Оставь, Александр! Надоело! — просил рыжебровый.