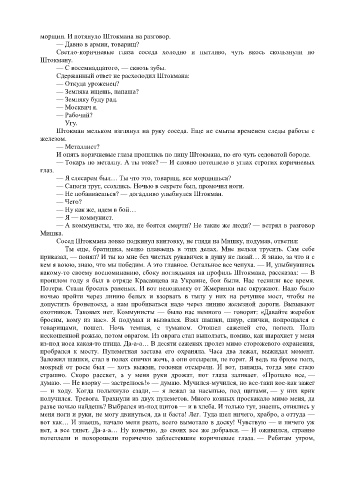Page 546 - Тихий Дон
P. 546
морщин. И потянуло Штокмана на разговор.
— Давно в армии, товарищ?
Светло-коричневые глаза соседа холодно и пытливо, чуть вкось скользнули по
Штокману.
— С восемнадцатого, — сквозь зубы.
Сдержанный ответ не расхолодил Штокмана:
— Откуда уроженец?
— Земляка ищешь, папаша?
— Земляку буду рад.
— Москвич я.
— Рабочий?
— Угу.
Штокман мельком взглянул на руку соседа. Еще не смыты временем следы работы с
железом.
— Металлист?
И опять коричневые глаза прошлись по лицу Штокмана, по его чуть седоватой бороде.
— Токарь по металлу. А ты тоже? — И словно потеплело в углах строгих коричневых
глаз.
— Я слесарем был… Ты что это, товарищ, все морщишься?
— Сапоги трут, ссохлись. Ночью в секрете был, промочил ноги.
— Не побаиваешься? — догадливо улыбнулся Штокман.
— Чего?
— Ну как же, идем в бой…
— Я — коммунист.
— А коммунисты, что же, не боятся смерти? Не такие же люди? — встрял в разговор
Мишка.
Сосед Штокмана ловко подкинул винтовку, не глядя на Мишку, подумав, ответил:
— Ты еще, братишка, мелко плаваешь в этих делах. Мне нельзя трусить. Сам себе
приказал, — понял? И ты ко мне без чистых рукавичек в душу не лазай… Я знаю, за что и с
кем я воюю, знаю, что мы победим. А это главное. Остальное все чепуха. — И, улыбнувшись
какому-то своему воспоминанию, сбоку поглядывая на профиль Штокмана, рассказал: — В
прошлом году я был в отряде Красавцева на Украине, бои были. Нас теснили все время.
Потери. Стали бросать раненых. И вот неподалеку от Жмеринки нас окружают. Надо было
ночью пройти через линию белых и взорвать в тылу у них на речушке мост, чтобы не
допустить бронепоезд, а нам пробиваться надо через линию железной дороги. Вызывают
охотников. Таковых нет. Коммунисты — было нас немного — говорят: «Давайте жеребок
бросим, кому из нас». Я подумал и вызвался. Взял шашки, шнур, спички, попрощался с
товарищами, пошел. Ночь темная, с туманом. Отошел саженей сто, пополз. Полз
нескошенной рожью, потом оврагом. Из оврага стал выползать, помню, как шарахнет у меня
из-под носа какая-то птица. Да-а-а… В десяти саженях пролез мимо сторожевого охранения,
пробрался к мосту. Пулеметная застава его охраняла. Часа два лежал, выжидал момент.
Заложил шашки, стал в полах спички жечь, а они отсырели, не горят. Я ведь на брюхе полз,
мокрый от росы был — хоть выжми, головки отсырели. И вот, папаша, тогда мне стало
страшно. Скоро рассвет, а у меня руки дрожат, пот глаза заливает. «Пропало все, —
думаю. — Не взорву — застрелюсь!» — думаю. Мучился-мучился, но все-таки кое-как зажег
— и ходу. Когда полыхнуло сзади, — я лежал за насыпью, под щитами, — у них крик
получился. Тревога. Трахнули из двух пулеметов. Много конных проскакало мимо меня, да
разве ночью найдешь? Выбрался из-под щитов — и в хлеба. И только тут, знаешь, отнялись у
меня ноги и руки, не могу двинуться, да и баста! Лег. Туда шел ничего, храбро, а оттуда —
вот как… И знаешь, начало меня рвать, всего вымотало в доску! Чувствую — и ничего уж
нет, а все тянет. Да-а-а… Ну конечно, до своих все же добрался. — И оживился, странно
потеплели и похорошели горячечно заблестевшие коричневые глаза. — Ребятам утром,