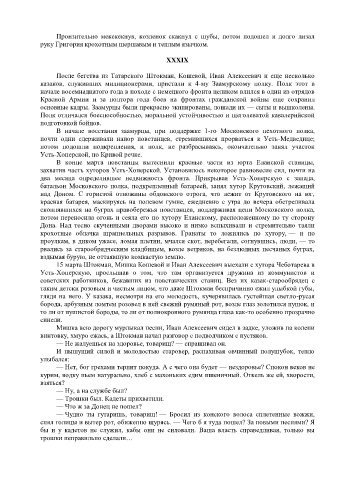Page 541 - Тихий Дон
P. 541
Пронзительно мекекекнув, козленок скакнул с шубы, потом подошел и долго лизал
руку Григория крохотным шершавым и теплым язычком.
XXXIX
После бегства из Татарского Штокман, Кошевой, Иван Алексеевич и еще несколько
казаков, служивших милиционерами, пристали к 4-му Заамурскому полку. Полк этот в
начале восемнадцатого года в походе с немецкого фронта целиком влился в один из отрядов
Красной Армии и за полтора года боев на фронтах гражданской войны еще сохранил
основные кадры. Заамурцы были прекрасно экипированы, лошади их — сыты и вышколены.
Полк отличался боеспособностью, моральной устойчивостью и щеголеватой кавалерийской
подготовкой бойцов.
В начале восстания заамурцы, при поддержке 1-го Московского пехотного полка,
почти одни сдерживали напор повстанцев, стремившихся прорваться к Усть-Медведице;
потом подошли подкрепления, и полк, не разбрасываясь, окончательно занял участок
Усть-Хоперской, по Кривой речке.
В конце марта повстанцы вытеснили красные части из юрта Еланской станицы,
захватив часть хуторов Усть-Хоперской. Установилось некоторое равновесие сил, почти на
два месяца определившее недвижность фронта. Прикрывая Усть-Хоперскую с запада,
батальон Московского полка, подкрепленный батареей, занял хутор Крутовский, лежащий
над Доном. С гористой отножины обдонского отрога, что лежит от Крутовского на юг,
красная батарея, маскируясь на полевом гумне, ежедневно с утра до вечера обстреливала
скоплявшихся на буграх правобережья повстанцев, поддерживая цепи Московского полка,
потом переносила огонь и сеяла его по хутору Еланскому, расположенному по ту сторону
Дона. Над тесно скученными дворами высоко и низко вспыхивали и стремительно таяли
крохотные облачка шрапнельных разрывов. Гранаты то ложились по хутору, — и по
проулкам, в диком ужасе, ломая плетни, мчался скот, перебегали, согнувшись, люди, — то
рвались за старообрядческим кладбищем, возле ветряков, на безлюдных песчаных буграх,
вздымая бурую, не оттаявшую комкастую землю.
15 марта Штокман, Мишка Кошевой и Иван Алексеевич выехали с хутора Чеботарева в
Усть-Хоперскую, прослышав о том, что там организуется дружина из коммунистов и
советских работников, бежавших из повстанческих станиц. Вез их казак-старообрядец с
таким детски розовым и чистым лицом, что даже Штокман беспричинно ежил улыбкой губы,
глядя на него. У казака, несмотря на его молодость, кучерявилась густейшая светло-русая
борода, арбузным ломтем розовел в ней свежий румяный рот, возле глаз золотился пушок, и
то ли от пушистой бороды, то ли от полнокровного румянца глаза как-то особенно прозрачно
синели.
Мишка всю дорогу мурлыкал песни, Иван Алексеевич сидел в задке, уложив на колени
винтовку, хмуро ежась, а Штокман начал разговор с подводчиком с пустяков.
— Не жалуешься на здоровье, товарищ? — спрашивал он.
И пышущий силой и молодостью старовер, распахивая овчинный полушубок, тепло
улыбался:
— Нет, бог грехами терпит покуда. А с чего она будет — нездоровье? Спокон веков не
курим, водку пьем натурально, хлеб с махоньких едим пшеничный. Откель же ей, хворости,
взяться?
— Ну, а на службе был?
— Трошки был. Кадеты прихватили.
— Что ж за Донец не пошел?
— Чудно ты гутаришь, товарищ! — Бросил из конского волоса сплетенные вожжи,
снял голицы и вытер рот, обиженно щурясь. — Чего б я туда пошел? За новыми песнями? Я
бы и у кадетов не служил, кабы они не силовали. Ваша власть справедливая, только вы
трошки неправильно сделали…