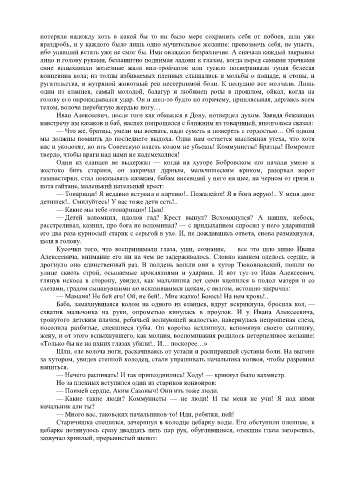Page 593 - Тихий Дон
P. 593
потеряли надежду хоть в какой бы то ни было мере сохранить себя от побоев, шли уже
враздробь, и у каждого было лишь одно мучительное желание: превозмочь себя, не упасть,
ибо упавший встать уже не смог бы. Ими овладело безразличие. А сначала каждый закрывал
лицо и голову руками, беззащитно поднимая ладони к глазам, когда перед самыми зрачками
сине вспыхивали железные жала вил-тройчаток или тускло посверкивала тупая белесая
концевина кола; из толпы избиваемых пленных слышались и мольбы о пощаде, и стоны, и
ругательства, и нутряной животный рев нестерпимой боли. К полудню все молчали. Лишь
один из еланцев, самый молодой, балагур и любимец роты в прошлом, ойкал, когда на
голову его опрокидывался удар. Он и шел-то будто по горячему, приплясывая, дергаясь всем
телом, волоча перебитую жердью ногу…
Иван Алексеевич, после того как обмылся в Дону, потвердел духом. Завидя бежавших
навстречу им казаков и баб, наспех попрощался с ближним из товарищей, вполголоса сказал:
— Что же, братцы, умели мы воевать, надо суметь и помереть с гордостью… Об одном
мы должны помнить до последнего выдоха. Одна нам остается мысленная утеха, что хотя
нас и уколотят, но ить Советскую власть колом не убьешь! Коммунисты! Братцы! Помремте
твердо, чтобы враги над нами не надсмехалися!
Один из еланцев не выдержал — когда на хуторе Бобровском его начали умело и
жестоко бить старики, он закричал дурным, мальчишеским криком, разорвал ворот
гимнастерки, стал показывать казакам, бабам висевший у него на шее, на черном от грязи и
пота гайтане, маленький нательный крест:
— Товарищи! Я недавно вступил в партию!.. Пожалейте! Я в бога верую!.. У меня двое
детишек!.. Смилуйтесь! У вас тоже дети есть!..
— Какие мы тебе «товарищи»! Цыц!
— Детей вспомнил, идолов гад? Крест вынул? Всхомянулся? А наших, небось,
расстреливал, казнил, про бога не вспоминал? — с придыханием спросил у него ударивший
его два раза курносый старик с серьгой в ухе. И, не дождавшись ответа, снова размахнулся,
целя в голову.
Кусочки того, что воспринимали глаза, уши, сознание, — все это шло мимо Ивана
Алексеевича, внимание его ни на чем не задерживалось. Словно камнем оделось сердце, и
дрогнуло оно единственный раз. В полдень вошли они в хутор Тюковновский, пошли по
улице сквозь строй, осыпаемые проклятиями и ударами. И вот тут-то Иван Алексеевич,
глянув искоса в сторону, увидел, как мальчишка лет семи вцепился в подол матери и со
слезами, градом сыпанувшими по исказившимся щекам, с визгом, истошно закричал:
— Маманя! Не бей его! Ой, не бей!.. Мне жалко! Боюсь! На нем кровь!..
Баба, замахнувшаяся колом на одного из еланцев, вдруг вскрикнула, бросила кол, —
схватив мальчонка на руки, опрометью кинулась в проулок. И у Ивана Алексеевича,
тронутого детским плачем, ребячьей волнующей жалостью, навернулась непрошеная слеза,
посолила разбитые, спекшиеся губы. Он коротко всхлипнул, вспомянув своего сынишку,
жену, и от этого вспыхнувшего, как молния, воспоминания родилось нетерпеливое желание:
«Только бы не на ихних глазах убили!.. И… поскорее…»
Шли, еле волоча ноги, раскачиваясь от устали и распиравшей суставы боли. На выгоне
за хутором, увидев степной колодец, стали упрашивать начальника конвоя, чтобы разрешил
напиться.
— Нечего распивать! И так припозднились! Ходу! — крикнул было вахмистр.
Но за пленных вступился один из стариков конвоиров:
— Поимей сердце, Аким Сазоныч! Они ить тоже люди.
— Какие такие люди? Коммунисты — не люди! И ты меня не учи! Я над ними
начальник али ты?
— Много вас, таковских начальников-то! Иди, ребятки, пей!
Старичишка спешился, зачерпнул в колодце цебарку воды. Его обступили пленные, к
цебарке потянулось сразу двадцать пять пар рук, обуглившиеся, отекшие глаза загорелись,
зазвучал хриплый, прерывистый шепот: