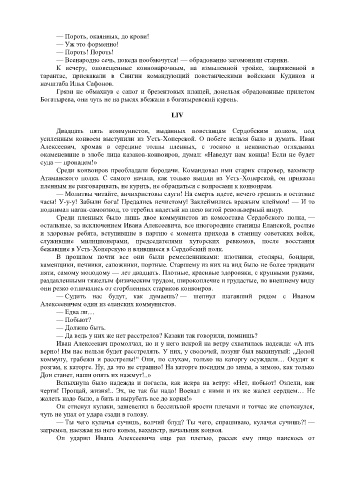Page 591 - Тихий Дон
P. 591
— Пороть, окаянных, до крови!
— Уж это форменно!
— Пороть! Пороть!
— Всенародно сечь, покеда пообмочутся! — обрадованно загомонили старики.
К вечеру, оповещенные коннонарочным, на взмыленной тройке, запряженной в
тарантас, прискакали в Сингин командующий повстанческими войсками Кудинов и
начштаба Илья Сафонов.
Грязи не обмахнув с сапог и брезентовых плащей, донельзя обрадованные прилетом
Богатырева, они чуть не на рысях вбежали в богатыревский курень.
LIV
Двадцать пять коммунистов, выданных повстанцам Сердобским полком, под
усиленным конвоем выступили из Усть-Хоперской. О побеге нельзя было и думать. Иван
Алексеевич, хромая в середине толпы пленных, с тоскою и ненавистью оглядывал
окаменевшие в злобе лица казаков-конвоиров, думал: «Наведут нам концы! Если не будет
суда — пропадем!»
Среди конвоиров преобладали бородачи. Командовал ими старик старовер, вахмистр
Атаманского полка. С самого начала, как только вышли из Усть-Хоперской, он приказал
пленным не разговаривать, не курить, не обращаться с вопросами к конвоирам.
— Молитвы читайте, анчихристовы слуги! На смерть идете, нечего грешить в остатние
часы! У-у-у! Забыли бога! Предались нечистому! Заклеймились вражьим клеймом! — И то
поднимал наган-самовзвод, то теребил надетый на шею витой револьверный шнур.
Среди пленных было лишь двое коммунистов из комсостава Сердобского полка, —
остальные, за исключением Ивана Алексеевича, все иногородние станицы Еланской, рослые
и здоровые ребята, вступившие в партию с момента прихода в станицу советских войск,
служившие милиционерами, председателями хуторских ревкомов, после восстания
бежавшие в Усть-Хоперскую и влившиеся в Сердобский полк.
В прошлом почти все они были ремесленниками: плотники, столяры, бондари,
каменщики, печники, сапожники, портные. Старшему из них на вид было не более тридцати
пяти, самому молодому — лет двадцать. Плотные, красивые здоровяки, с крупными руками,
раздавленными тяжелым физическим трудом, широкоплечие и грудастые, по внешнему виду
они резко отличались от сгорбленных стариков конвоиров.
— Судить нас будут, как думаешь? — шепнул шагавший рядом с Иваном
Алексеевичем один из еланских коммунистов.
— Едва ли…
— Побьют?
— Должно быть.
— Да ведь у них же нет расстрелов? Казаки так говорили, помнишь?
Иван Алексеевич промолчал, но и у него искрой на ветру схватилась надежда: «А ить
верно! Им нас нельзя будет расстрелять. У них, у сволочей, лозунг был выкинутый: „Долой
коммуну, грабежи и расстрелы!“ Они, по слухам, только на каторгу осуждали… Осудят к
розгам, к каторге. Ну, да это не страшно! На каторге посидим до зимы, а зимою, как только
Дон станет, наши опять их нажмут!..»
Вспыхнула было надежда и погасла, как искра на ветру: «Нет, побьют! Озлели, как
черти! Прощай, жизня!.. Эх, не так бы надо! Воевал с ними и их же жалел сердцем… Не
жалеть надо было, а бить и вырубать все до корня!»
Он стиснул кулаки, зашевелил в бессильной ярости плечами и тотчас же споткнулся,
чуть не упал от удара сзади в голову.
— Ты чего кулачья сучишь, волчий блуд? Ты чего, спрашиваю, кулачья сучишь?! —
загремел, наезжая на него конем, вахмистр, начальник конвоя.
Он ударил Ивана Алексеевича еще раз плетью, рассек ему лицо наискось от