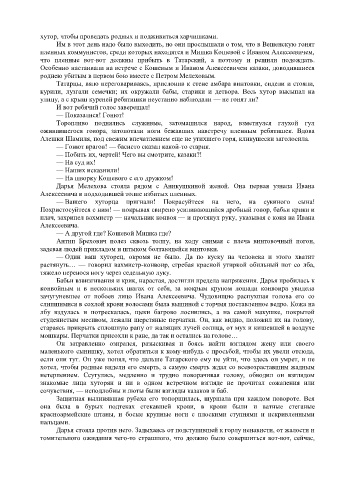Page 595 - Тихий Дон
P. 595
хутор, чтобы проведать родных и подживиться харчишками.
Им в этот день надо было выходить, но они прослышали о том, что в Вешенскую гонят
пленных коммунистов, среди которых находятся и Мишка Кошевой с Иваном Алексеевичем,
что пленные вот-вот должны прибыть в Татарский, а поэтому и решили подождать.
Особенно настаивали на встрече с Кошевым и Иваном Алексеевичем казаки, доводившиеся
роднею убитым в первом бою вместе с Петром Мелеховым.
Татарцы, вяло переговариваясь, прислонив к стене амбара винтовки, сидели и стояли,
курили, лузгали семечки; их окружали бабы, старики и детвора. Весь хутор высыпал на
улицу, а с крыш куреней ребятишки неустанно наблюдали — не гонят ли?
И вот ребячий голос заверещал!
— Показалися! Гонют!
Торопливо поднялись служивые, затомашился народ, взметнулся глухой гул
оживившегося говора, затопотали ноги бежавших навстречу пленным ребятишек. Вдова
Алешки Шамиля, под свежим впечатлением еще не утихшего горя, кликушески заголосила.
— Гонют врагов! — басисто сказал какой-то старик.
— Побить их, чертей! Чего вы смотрите, казаки?!
— На суд их!
— Наших исказнили!
— На шворку Кошевого с его дружком!
Дарья Мелехова стояла рядом с Аникушкиной женой. Она первая узнала Ивана
Алексеевича в подходившей толпе избитых пленных.
— Вашего хуторца пригнали! Покрасуйтеся на него, на сукиного сына!
Похристосуйтеся с ним! — покрывая свирепо усиливающийся дробный говор, бабьи крики и
плач, захрипел вахмистр — начальник конвоя — и протянул руку, указывая с коня на Ивана
Алексеевича.
— А другой где? Кошевой Мишка где?
Антип Брехович полез сквозь толпу, на ходу снимая с плеча винтовочный погон,
задевая людей прикладом и штыком болтающейся винтовки.
— Один ваш хуторец, окромя не было. Да по куску на человека и этого хватит
растянуть… — говорил вахмистр-конвоир, сгребая красной утиркой обильный пот со лба,
тяжело перенося ногу через седельную луку.
Бабьи взвизгивания и крик, нарастая, достигли предела напряжения. Дарья пробилась к
конвойным и в нескольких шагах от себя, за мокрым крупом лошади конвоира увидела
зачугуневшее от побоев лицо Ивана Алексеевича. Чудовищно распухшая голова его со
слипшимися в сохлой крови волосами была вышиной с торчмя поставленное ведро. Кожа на
лбу вздулась и потрескалась, щеки багрово лоснились, а на самой макушке, покрытой
студенистым месивом, лежали шерстяные перчатки. Он, как видно, положил их на голову,
стараясь прикрыть сплошную рану от жалящих лучей солнца, от мух и кишевшей в воздухе
мошкары. Перчатки присохли к ране, да так и остались на голове…
Он затравленно озирался, разыскивая и боясь найти взглядом жену или своего
маленького сынишку, хотел обратиться к кому-нибудь с просьбой, чтобы их увели отсюда,
если они тут. Он уже понял, что дальше Татарского ему не уйти, что здесь он умрет, и не
хотел, чтобы родные видели его смерть, а самую смерть ждал со всевозраставшим жадным
нетерпением. Ссутулясь, медленно и трудно поворачивая голову, обводил он взглядом
знакомые лица хуторян и ни в одном встречном взгляде не прочитал сожаления или
сочувствия, — исподлобны и люты были взгляды казаков и баб.
Защитная вылинявшая рубаха его топорщилась, шуршала при каждом повороте. Вся
она была в бурых подтеках стекавшей крови, в крови были и ватные стеганые
красноармейские штаны, и босые крупные ноги с плоскими ступнями и искривленными
пальцами.
Дарья стояла против него. Задыхаясь от подступившей к горлу ненависти, от жалости и
томительного ожидания чего-то страшного, что должно было совершиться вот-вот, сейчас,