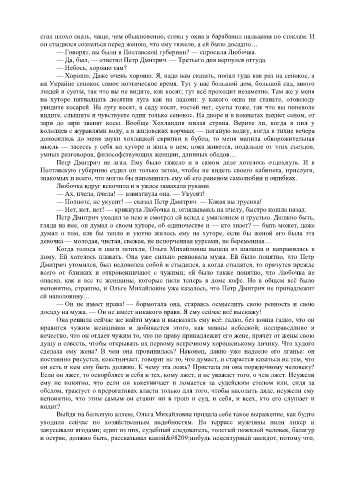Page 92 - Рассказы. Повести. Пьесы
P. 92
стал плохо спать, чаще, чем обыкновенно, стоял у окна и барабанил пальцами по стеклам. И
он стыдился сознаться перед женою, что ему тяжело, а ей было досадно…
— Говорят, вы были в Полтавской губернии? — спросила Любочка.
— Да, был, — ответил Петр Дмитрич. — Третьего дня вернулся оттуда.
— Небось, хорошо там?
— Хорошо. Даже очень хорошо. Я, надо вам сказать, попал туда как раз на сенокос, а
на Украйне сенокос самое поэтическое время. Тут у нас большой дом, большой сад, много
людей и суеты, так что вы не видите, как косят; тут всё проходит незаметно. Там же у меня
на хуторе пятнадцать десятин луга как на ладони: у какого окна ни станьте, отовсюду
увидите косарей. На лугу косят, в саду косят, гостей нет, суеты тоже, так что вы поневоле
видите, слышите и чувствуете один только сенокос. На дворе и в комнатах пахнет сеном, от
зари до зари звенят косы. Вообще Хохландия милая страна. Верите ли, когда я пил у
колодцев с журавлями воду, а в жидовских корчмах — поганую водку, когда в тихие вечера
доносились до меня звуки хохлацкой скрипки и бубна, то меня манила обворожительная
мысль — засесть у себя на хуторе и жить в нем, пока живется, подальше от этих съездов,
умных разговоров, философствующих женщин, длинных обедов…
Петр Дмитрич не лгал. Ему было тяжело и в самом деле хотелось отдохнуть. И в
Полтавскую губернию ездил он только затем, чтобы не видеть своего кабинета, прислуги,
знакомых и всего, что могло бы напоминать ему об его раненом самолюбии и ошибках.
Любочка вдруг вскочила и в ужасе замахала руками.
— Ах, пчела, пчела! — взвизгнула она. — Укусит!
— Полноте, не укусит! — сказал Петр Дмитрич. — Какая вы трусиха!
— Нет, нет, нет! — крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назад.
Петр Дмитрич уходил за нею и смотрел ей вслед с умилением и грустью. Должно быть,
глядя на нее, он думал о своем хуторе, об одиночестве и — кто знает? — быть может, даже
думал о том, как бы тепло и уютно жилось ему на хуторе, если бы женой его была эта
девочка — молодая, чистая, свежая, не испорченная курсами, не беременная…
Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла из шалаша и направилась к
дому. Ей хотелось плакать. Она уже сильно ревновала мужа. Ей было понятно, что Петр
Дмитрич утомился, был недоволен собой и стыдился, а когда стыдятся, то прячутся прежде
всего от близких и откровенничают с чужими; ей было также понятно, что Любочка не
опасна, как и все те женщины, которые пили теперь в доме кофе. Но в общем всё было
непонятно, страшно, и Ольге Михайловне уже казалось, что Петр Дмитрич не принадлежит
ей наполовину…
— Он не имеет права! — бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою
досаду на мужа. — Он не имеет никакого права. Я ему сейчас всё выскажу!
Она решила сейчас же найти мужа и высказать ему всё: гадко, без конца гадко, что он
нравится чужим женщинам и добивается этого, как манны небесной; несправедливо и
нечестно, что он отдает чужим то, что по праву принадлежит его жене, прячет от жены свою
душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику. Что худого
сделала ему жена? В чем она провинилась? Наконец, давно уже надоело его лганье: он
постоянно рисуется, кокетничает, говорит не то, что думает, и старается казаться не тем, что
он есть и кем ему быть должно. К чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человеку?
Если он лжет, то оскорбляет и себя и тех, кому лжет, и не уважает того, о чем лжет. Неужели
ему не понятно, что если он кокетничает и ломается за судейским столом или, сидя за
обедом, трактует о прерогативах власти только для того, чтобы насолить дяде, неужели ему
непонятно, что этим самым он ставит ни в грош и суд, и себя, и всех, кто его слушает и
видит?
Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себе такое выражение, как будто
уходила сейчас по хозяйственным надобностям. На террасе мужчины пили ликер и
закусывали ягодами; один из них, судебный следователь, толстый пожилой человек, балагур
и остряк, должно быть, рассказывал какой‑нибудь нецензурный анекдот, потому что,