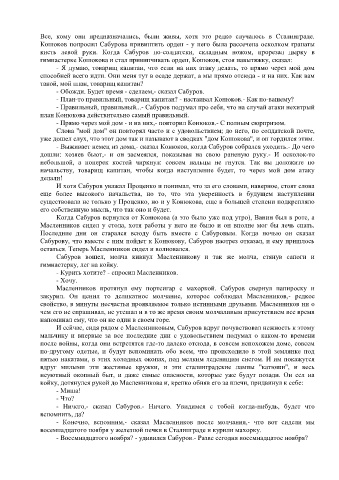Page 131 - Дни и ночи
P. 131
Все, кому они предназначались, были живы, хотя это редко случалось в Сталинграде.
Конюков попросил Сабурова привинтить орден - у него была рассечена осколком гранаты
кисть левой руки. Когда Сабуров по-солдатски, складным ножом, прорезал дырку в
гимнастерке Конюкова и стал привинчивать орден, Конюков, стоя навытяжку, сказал:
- Я думаю, товарищ капитан, что если на них атаку делать, то прямо через мой дом
способней всего идти. Они меня тут в осаде держат, а мы прямо отсюда - и на них. Как вам
такой, мой план, товарищ капитан?
- Обожди. Будет время - сделаем,- сказал Сабуров.
- План-то правильный, товарищ капитан? - настаивал Конюков.- Как по-вашему?
- Правильный, правильный...- Сабуров подумал про себя, что на случай атаки нехитрый
план Конюкова действительно самый правильный.
- Прямо через мой дом - и на них,- повторил Конюков.- С полным сюрпризом.
Слова "мой дом" он повторял часто и с удовольствием; до него, по солдатской почте,
уже дошел слух, что этот дом так и называют в сводках "дом Конюкова", и он гордился этим.
- Выживает немец из дома,- сказал Конюков, когда Сабуров собрался уходить.- До чего
дошли: хозяев бьют,- и он засмеялся, показывая на свою раненую руку.- И осколок-то
небольшой, а поперек костей чиркнул: совсем пальцы не гнутся. Так вы доложите по
начальству, товарищ капитан, чтобы когда наступление будет, то через мой дом атаку
делали!
И хотя Сабуров уважал Проценко и понимал, что за его словами, наверное, стоят слова
еще более высокого начальства, но то, что эта уверенность в будущем наступлении
существовала не только у Проценко, но и у Конюкова, еще в большей степени подкрепляло
его собственную мысль, что так оно и будет.
Когда Сабуров вернулся от Конюкова (а это было уже под утро), Ванин был в роте, а
Масленников сидел у стола, хотя работы у него не было и он вполне мог бы лечь спать.
Последние дни он старался всюду быть вместе с Сабуровым. Когда ночью он сказал
Сабурову, что вместе с ним пойдет к Конюкову, Сабуров наотрез отказал, и ему пришлось
остаться. Теперь Масленников сидел и волновался.
Сабуров вошел, молча кивнул Масленникову и так же молча, стянув сапоги и
гимнастерку, лег на койку.
- Курить хотите? - спросил Масленников.
- Хочу.
Масленников протянул ему портсигар с махоркой. Сабуров свернул папироску и
закурил. Он ценил то деликатное молчание, которое соблюдал Масленников,- редкое
свойство, в минуты несчастья проявляемое только истинными друзьями. Масленников ни о
чем его не спрашивал, не утешал и в то же время своим молчаливым присутствием все время
напоминал ему, что он не один в своем горе.
И сейчас, сидя рядом с Масленниковым, Сабуров вдруг почувствовал нежность к этому
мальчику и впервые за все последние дни с удовольствием подумал о каком-то времени
после войны, когда они встретятся где-то далеко отсюда, в совсем непохожем доме, совсем
по-другому одетые, и будут вспоминать обо всем, что происходило в этой землянке под
пятью накатами, в этих холодных окопах, под мелким леденящим снегом. И им покажутся
вдруг милыми эти жестяные кружки, и эти сталинградские лампы "катюши", и весь
неуютный окопный быт, и даже самые опасности, которые уже будут позади. Он сел на
койку, дотянулся рукой до Масленникова и, крепко обняв его за плечи, придвинул к себе:
- Миша!
- Что?
- Ничего,- сказал Сабуров.- Ничего. Увидимся с тобой когда-нибудь, будет что
вспомнить, да?
- Конечно, вспомним,- сказал Масленников после молчания,- что вот сидели мы
восемнадцатого ноября у железной печки в Сталинграде и курили махорку.
- Восемнадцатого ноября? - удивился Сабуров.- Разве сегодня восемнадцатое ноября?