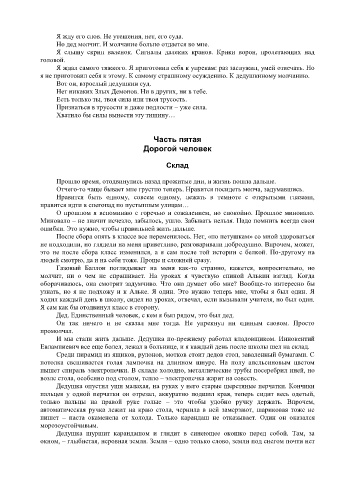Page 37 - Мой генерал
P. 37
Я жду его слов. Не утешения, нет, его суда.
Но дед молчит. И молчание больно отдается во мне.
Я слышу скрип валенок. Сигналы далеких кранов. Крики ворон, пролетающих над
головой.
Я ждал самого тяжкого. Я приготовил себя к упрекам: раз заслужил, умей отвечать. Но
я не приготовил себя к этому. К самому страшному осуждению. К дедушкиному молчанию.
Вот он, взрослый дедушкин суд.
Нет никаких Злых Демонов. Ни в других, ни в тебе.
Есть только ты, твоя сила или твоя трусость.
Признаться в трусости и даже подлости – уже сила.
Хватило бы силы вынести эту тишину…
Часть пятая
Дорогой человек
Склад
Прошло время, отодвинулись назад прожитые дни, и жизнь пошла дальше.
Отчего-то чаще бывает мне грустно теперь. Нравится посидеть молча, задумавшись.
Нравится быть одному, совсем одному, лежать в темноте с открытыми глазами,
нравится идти в снегопад по пустынным улицам…
О прошлом я вспоминаю с горечью и сожалением, но спокойно. Прошлое миновало.
Миновало – не значит исчезло, забылось, ушло. Забывать нельзя. Надо помнить всегда свои
ошибки. Это нужно, чтобы правильней жить дальше.
После сбора опять в классе все переменилось. Нет, «по петушкам» со мной здороваться
не подходили, но глядели на меня приветливо, разговаривали добродушно. Впрочем, может,
это не после сбора класс изменился, а я сам после той истории с белкой. По-другому на
людей смотрю, да и на себя тоже. Проще и сложней сразу.
Газовый Баллон поглядывает на меня как-то странно, кажется, вопросительно, но
молчит, ни о чем не спрашивает. На уроках я чувствую спиной Алькин взгляд. Когда
оборачиваюсь, она смотрит задумчиво. Что она думает обо мне? Вообще-то интересно бы
узнать, но я не подхожу и к Альке. Я один. Это нужно теперь мне, чтобы я был один. Я
ходил каждый день в школу, сидел на уроках, отвечал, если вызывали учителя, но был один.
Я сам как бы отодвинул класс в сторону.
Дед. Единственный человек, с кем я был рядом, это был дед.
Он так ничего и не сказал мне тогда. Не упрекнул ни единым словом. Просто
промолчал.
И мы стали жить дальше. Дедушка по-прежнему работал кладовщиком. Иннокентий
Евлампиевич все еще болел, лежал в больнице, и я каждый день после школы шел на склад.
Среди пирамид из ящиков, рулонов, мотков стоит дедов стол, заваленный бумагами. С
потолка свешивается голая лампочка на длинном шнуре. На полу апельсиновым цветом
пышет спираль электропечки. В складе холодно, металлические трубы посеребрил иней, но
возле стола, особенно под столом, тепло – электропечка жарит на совесть.
Дедушка опустил уши малахая, на руках у него старые шерстяные перчатки. Кончики
пальцев у одной перчатки он отрезал, аккуратно подшил края, теперь сидит весь одетый,
только пальцы на правой руке голые – это чтобы удобно ручку держать. Впрочем,
автоматическая ручка лежит на краю стола, чернила в ней замерзают, шариковая тоже не
пишет – паста окаменела от холода. Только карандаш не отказывает. Один он оказался
морозоустойчивым.
Дедушка шуршит карандашом и глядит в синеющее окошко перед собой. Там, за
окном, – глыбистая, неровная земля. Земля – одно только слово, земли под снегом почти нет