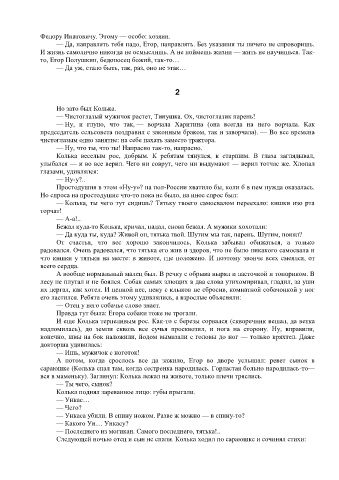Page 4 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 4
Федору Ипатовичу. Этому — особо: хозяин.
— Да, направлять тебя надо, Егор, направлять. Без указания ты ничего не спроворишь.
И жизнь самолично никогда не осмыслишь. А не поймешь жизни — жить не научишься. Так-
то, Егор Полушкин, бедоносец божий, так-то…
— Да уж, стало быть, так, раз, оно не этак…
2
Но зато был Колька.
— Чистоглазый мужичок растет, Тинушка. Ох, чистоглазик парень!
— Ну, и глупо, что так, — ворчала Харитина (она всегда на него ворчала. Как
председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала). — Во все времена
чистоглазым одно занятие: на себе пахать заместо трактора.
— Ну, что ты, что ты! Напрасно так-то, напрасно.
Колька веселым рос, добрым. К ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал,
улыбался — и во все верил. Чего ни соврут, чего ни выдумают — верил тотчас же. Хлопал
глазами, удивлялся:
— Ну-у?..
Простодушия в этом «Ну-у»? на пол-России хватило бы, коли б в нем нужда оказалась.
Но спроса на простодушие что-то пока не было, на иное спрос был:
— Колька, ты чего тут сидишь? Тятьку твоего самосвалом переехало: кишки изо рта
торчат!
— А-а!..
Бежал куда-то Колька, кричал, падал, снова бежал. А мужики хохотали:
— Да куда ты, куда? Живой он, тятька твой. Шутим мы так, парень. Шутим, понял?
От счастья, что вес хорошо закончилось, Колька забывал обижаться, а только
радовался. Очень радовался, что тятька его жив и здоров, что не было никакого самосвала и
что кишки у тятьки на месте: в животе, где положено. И поэтому звонче всех смеялся, от
всего сердца.
А вообще нормальный малец был. В речку с обрыва нырял и ласточкой и топориком. В
лесу не плутал и не боялся. Собак самых злющих в два слова утихомиривал, гладил, за уши
их дергал, как хотел. И цепной пес, пену с клыков не сбросив, комнатной собачонкой у ног
его ластился. Ребята очень этому удивлялись, а взрослые объясняли:
— Отец у него собачье слово знает.
Правда тут была: Егора собаки тоже не трогали.
И еще Колька терпеливым рос. Как-то с березы сорвался (скворечник вешал, да ветка
надломилась), до земли сквозь все сучья просквозил, и нога на сторону. Ну, вправили,
конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног — только кряхтел. Даже
докторша удивилась:
— Ишь, мужичок с ноготок!
А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе услышал: ревет сынок в
сараюшке (Колька спал там, когда сестренка народилась. Горластая больно народилась-то—
вся в маменьку). Заглянул: Колька лежал на животе, только плечи тряслись.
— Ты чего, сынок?
Колька поднял зареванное лицо: губы прыгали.
— Ункас…
— Чего?
— Ункаса убили. В спину ножом. Разве ж можно — в спину-то?
— Какого Ун… Ункасу?
— Последнего из могикан. Самого последнего, тятька!..
Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи: