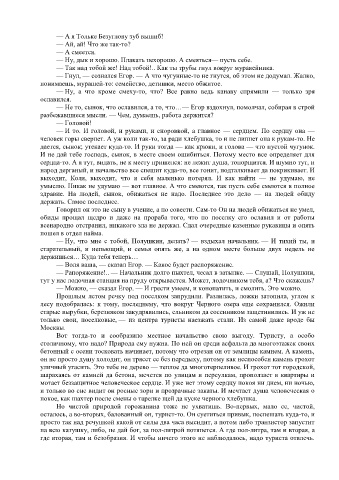Page 9 - Не стреляйте в белых лебедей
P. 9
— А я Тольке Безуглову зуб вышиб!
— Ай, ай! Что же так-то?
— А смеется.
— Ну, дык и хорошо. Плакать нехорошо. А смеяться— пусть себе.
— Так над тобой же! Над тобой!.. Как ты трубы гнул вокруг муравейника.
— Гнул, — сознался Егор. — А что чугунные-то не гнутся, об этом не додумал. Жалко,
понимаешь, мурашей-то: семейство, детишки, место обжитое.
— Ну, а что кроме смеху-то, что? Все равно ведь канаву спрямили — только зря
ославился.
— Не то, сынок, что ославился, а то, что…— Егор вздохнул, помолчал, собирая в строй
разбежавшиеся мысли. — Чем, думаешь, работа держится?
— Головой!
— И то. И головой, и руками, и сноровкой, а главное — сердцем. По сердцу она —
человек горы свернет. А уж коли так-то, за ради хлебушка, то и не липнет она к рукам-то. Не
дается, сынок; утекает куда-то. И руки тогда — как крюки, и голова — что пустой чугунок.
И не дай тебе господь, сынок, в месте своем ошибиться. Потому место все определяет для
сердца-то. А я тут, видать, не к месту пришелся: не лежит душа, топорщится. И шумно тут, и
народ дерганый, и начальство все спешит куда-то, все гонит, подталкивает да покрикивает. И
выходит, Коля, выходит, что я себя маленько потерял. И как найти — не удумаю, не
умыслю. Никак не удумаю — вот главное. А что смеются, так пусть себе смеются в полное
здравие. На людей, сынок, обижаться не надо. Последнее это дело — на людей обиду
держать. Самое последнее.
Говорил он это не сыну в учение, а по совести. Сам-то Он на людей обижаться не умел,
обиды прощал щедро и даже на прораба того, что по поселку его ославил и от работы
всенародно отстранил, никакого зла не держал. Сдал очередные казенные рукавицы и опять
пошел в отдел найма.
— Ну, что мне с тобой, Полушкин, делать? — вздыхал начальник. — И тихий ты, и
старательный, и непьющий, и семья опять же, а на одном месте больше двух недель не
держишься… Куда тебя теперь…
— Воля ваша, — сказал Егор. — Какое будет распоряжение.
— Рапоряжение!.. — Начальник долго пыхтел, чесал в затылке. — Слушай, Полушкин,
тут у нас лодочная станция на пруду открывается. Может, лодочником тебя, а? Что скажешь?
— Можно, — сказал Егор. — И грести умеем, и конопатить, и смолить. Это можно.
Прошлым летом речку под поселком запрудили. Разлилась, ложки затопила, углом к
лесу подобралась: к тому, последнему, что вокруг Черного озера еще сохранился. Ожили
старые вырубки, березняком закудрявились, ельником да сосенником защетинились. И уж не
только свои, поселковые, — из центра туристы наезжать стали. Из самой даже вроде бы
Москвы.
Вот тогда-то и сообразило местное начальство свою выгоду. Туристу, а особо
столичному, что надо? Природа ему нужна. По ней он среди асфальта да многоэтажек своих
бетонный с осени тосковать начинает, потому что отрезан он от землицы камнем. А камень,
он не просто душу холодит, он трясет ее без передыху, потому как неспособен камень грохот
уличный угасить. Это тебе не дерево — теплое да многотерпеливое. И грохот тот городской,
шарахаясь от камней да бетона, мечется по улицам и переулкам, проползает в квартиры и
мотает беззащитное человеческое сердце. И уже нет этому сердцу покоя ни днем, ни ночью,
и только во сне видит он росные зори и прозрачные закаты. И мечтает душа человеческая о
покое, как шахтер после смены о тарелке щей да куске черного хлебушка.
Но чистой природой горожанина тоже не ухватишь. Во-первых, мало ее, чистой,
осталось, а во-вторых, балованный он, турист-то. Он суетиться привык, поспешать куда-то, и
просто так над речушкой какой от силы два часа высидит, а потом либо транзистор запустит
на всю катушку, либо, не дай бог, за пол-литрой потянется. А где пол-литра, там и вторая, а
где вторая, там и безобразия. И чтобы ничего этого не наблюдалось, надо туриста отвлечь.