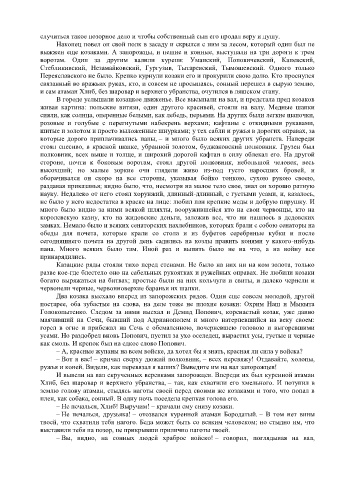Page 36 - Тарас Бульба
P. 36
случиться такое позорное дело и чтобы собственный сын его продал веру и душу.
Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не
выжжен еще козаками. А запорожцы, и пешие и конные, выступали на три дороги к трем
воротам. Один за другим валили курени: Уманский, Поповичевский, Каневский,
Стебликивский, Незамайковский, Гургузив, Тытаревский, Тымошевский. Одного только
Переяславского не было. Крепко курнули козаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся
связанный во вражьих руках, кто, и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю,
и сам атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, очутился в ляшском стану.
В городе услышали козацкое движенье. Все высыпали на вал, и предстала пред козаков
живая картина: польские витязи, один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки
сияли, как солнца, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других были легкие шапочки,
розовые и голубые с перегнутыми набекрень верхами; кафтаны с откидными рукавами,
шитые и золотом и просто выложенные шнурками; у тех сабли и ружья в дорогих оправах, за
которые дорого приплачивались паны, – и много было всяких других убранств. Напереди
стоял спесиво, в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник. Грузен был
полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан в силу облекал его. На другой
стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь
высохший; но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей, и
оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею,
раздавая приказанья; видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную
науку. Недалеко от него стоял хорунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось,
не было у него недостатка в краске на лице: любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И
много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на
королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что ни нашлось в дедовских
замках. Немало было и всяких сенаторских нахлебников, которых брали с собою сенаторы на
обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки и после
сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь
пана. Много всяких было там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все
принарядились.
Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только
разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятках и ружейных оправах. Не любили козаки
богато выряжаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и
червонели черные, червонноверхие бараньи их шапки.
Два козака выехало вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой
постарее, оба зубастые на слова, на деле тоже не плохие козаки: Охрим Наш и Мыкыта
Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый козак, уже давно
маячивший на Сечи, бывший под Адрианополем и много натерпевшийся на веку своем:
горел в огне и прибежал на Сечь с обсмаленною, почерневшею головою и выгоревшими
усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастил усы, густые и черные
как смоль. И крепок был на едкое слово Попович.
– А, красные жупаны на всем войске, да хотел бы я знать, красная ли сила у войска?
– Вот я вас! – кричал сверху дюжий полковник, – всех перевяжу! Отдавайте, холопы,
ружья и коней. Видели, как перевязал я ваших? Выведите им на вал запорожцев!
И вывели на вал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман
Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, – так, как схватили его хмельного. И потупил в
землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же козаками и того, что попал в
плен, как собака, сонный. В одну ночь поседела крепкая голова его.
– Не печалься, Хлиб! Выручим! – кричали ему снизу козаки.
– Не печалься, друзьяка! – отозвался куренной атаман Бородатый. – В том нет вины
твоей, что схватили тебя нагого. Беда может быть со всяким человеком; но стыдно им, что
выставили тебя на позор, не прикрывши прилично наготы твоей.
– Вы, видно, на сонных людей храброе войско! – говорил, поглядывая на вал,