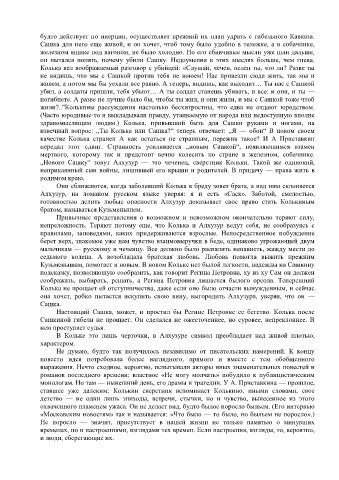Page 137 - Ночевала тучка золотая
P. 137
будто действует по инерции, осуществляет прежний их план удрать с гибельного Кавказа.
Сашка для него еще живой, и он хочет, чтоб тому было удобно в тележке, а в собачнике,
железном ящике под вагоном, не было холодно. Но его сбивчивые мысли уже шли дальше,
он пытался понять, почему убили Сашку. Недоумения в этих мыслях больше, чем гнева.
Колька вел воображаемый разговор с убийцей: «Слушай, чечен, ослеп ты, что ли? Разве ты
не видишь, что мы с Сашкой против тебя не воюем! Нас привезли сюда жить, так мы и
живем, а потом мы бы уехали все равно. А теперь, видишь, как выходит… Ты нас с Сашкой
убил, а солдаты пришли, тебя убьют… А ты солдат станешь убивать, и все: и они, и ты —
погибнете. А разве не лучше было бы, чтобы ты жил, и они жили, и мы с Сашкой тоже чтоб
жили?.."Колькины рассуждения настолько бесхитростны, что едва не отдают юродством.
(Часто юродивые-то и выкладывали правду, утаиваемую от народа или недоступную вполне
здравомыслящим людям.) Колька, привыкший быть для Сашки руками и ногами, на
извечный вопрос: „Ты Колька или Сашка?“ теперь отвечает: „Я — обои“ В новом своем
качестве Колька странен А как остаться не странным, пережив такое? И А Приставкин
передал этот сдвиг. Странность усиливается „новым Сашкой“, появляющимся взамен
мертвого, которому так и предстоит вечно колесить по стране в железном, собачнике.
„Нового Сашку“ зовут Алхузур — это чеченец, сверстник Кольки. Такой же одинокий,
неприкаянный сын войны, лишившей его крыши и родителей. В придачу — права жить в
родимом краю.
Они сближаются, когда заболевший Колька в бреду зовет брата, а над ним склоняется
Алхузур, на ломаном русском языке уверяя: я и есть «Саск». Заботой, смелостью,
готовносгью делить любые опасности Алхузур доказывает свое право стать Колькиным
братом, называться Кузьменышем.
Привычные представления о возможном и невозможном окончательно теряют силу,
непреложность. Теряют потому еще, что Колька и Алхузур ведут себя, не сообразуясь с
правилами, заповедями, каких придерживаются взрослые. Непосредственное побуждение
берет верх, знакомое уже нам чувство взаимовыручки в беде, одинаково угрожающей двум
мальчикам — русскому и чеченцу. Все должно было распалить ненависть, жажду мести до
седьмого колена. А возобладала братская любовь. Любовь помогла выжить прежним
Кузьменышам, помогает и новым. В новом Кольке нет былой легкости, надежды на Сашкину
подсказку, позволяющую сообразить, как говорит Регина Петровна, ху из ху Сам он должен
соображать, выбирать, решать, а Регина Петровна лишается былого ореола. Теперешний
Колька не прощает ей отступничества, даже если оно было отчасти вынужденным, и сейчас
она хочет, робко пытается искупить свою вину, выгородить Алхузура, уверяя, что он —
Сашка.
Настоящий Сашка, может, и простил бы Регине Петровне ее бегство. Колька после
Сашкиной гибели не прощает. Он сделался не ожесточеннее, но суровее, непреклоннее. В
нем проступает судья.
В Кольке это лишь черточки, в Алхузуре символ преобладает над живой плотью,
характером.
Не думаю, будто так получилось независимо от писательских намерений. К концу
повести идея потребовала более наглядного, прямого и вместе с тем обобщенного
выражения. Нечто сходное, вероятно, испытывали авторы иных знаменательных повестей и
романов последнего времени; властное «Не могу молчать» побудило к публицистическим
монологам. Но там — нынешний день, его драмы и трагедии. У А. Прнставкнна — прошлое,
ставшее уже далеким; Колькин сверстник вспоминает Колькино, иными словами, свое
детство — не одни лишь эпизоды, встречи, стычки, но и чувство, вынесенное из этого
охваченного пламенем ужаса. Он не делает вид, будто былое поросло быльем. (Его интервью
«Московским новостям» так и называется: «Что было — то было, но быльем не поросло».)
Не поросло — значит, присутствует в нашей жизни не только памятью о минувших
временах, но и настроениями, взглядами тех времен. Если настроения, взгляды, то, вероятно,
и люди, сберегающие их.