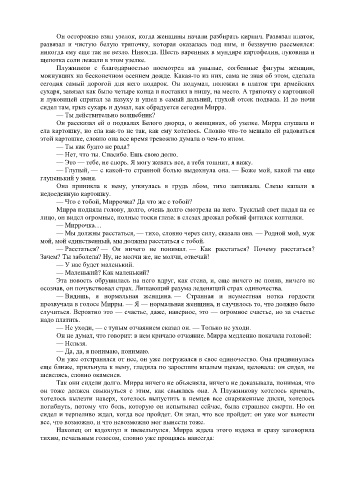Page 104 - В списках не значился
P. 104
Он осторожно взял узелок, когда женщины начали разбирать кирпич. Развязал платок,
развязал и чистую белую тряпочку, которая оказалась под ним, и беззвучно рассмеялся:
никогда ему еще так не везло. Никогда. Шесть варенных в мундире картофелин, луковица и
щепотка соли лежали в этом узелке.
Плужников с благодарностью посмотрел на унылые, согбенные фигуры женщин,
мокнувших на бесконечном осеннем дожде. Какая-то из них, сама не зная об этом, сделала
сегодня самый дорогой для него подарок. Он подумал, положил в платок три армейских
сухаря, завязал как было четыре конца и поставил в нишу, на место. А тряпочку с картошкой
и луковицей спрятал за пазуху и ушел в самый дальний, глухой отсек подвала. И до ночи
сидел там, грыз сухарь и думал, как обрадуется сегодня Мирра.
— Ты действительно волшебник?
Он рассказал ей о подвалах Белого дворца, о женщинах, об узелке. Мирра слушала и
ела картошку, но ела как-то не так, как ему хотелось. Словно что-то мешало ей радоваться
этой картошке, словно она все время тревожно думала о чем-то ином.
— Ты как будто не рада?
— Нет, что ты. Спасибо. Ешь свою долю.
— Это — тебе, не спорь. Я могу жевать все, а тебя тошнит, я вижу.
— Глупый, — с какой-то странной болью выдохнула она. — Боже мой, какой ты еще
глупенький у меня.
Она приникла к нему, уткнулась в грудь лбом, тихо заплакала. Слезы капали в
недоеденную картошку.
— Что с тобой, Миррочка? Да что же с тобой?
Мирра подняла голову, долго, очень долго смотрела на него. Тусклый свет падал на ее
лицо, он видел огромные, полные тоски глаза: в слезах дрожал робкий фитилек коптилки.
— Миррочка…
— Мы должны расстаться, — тихо, словно через силу, сказала она. — Родной мой, муж
мой, мой единственный, мы должны расстаться с тобой.
— Расстаться? — Он ничего не понимал. — Как расстаться? Почему расстаться?
Зачем? Ты заболела? Ну, не молчи же, не молчи, отвечай!
— У нас будет маленький.
— Маленький? Как маленький?
Эта новость обрушилась на него вдруг, как стена, и, еще ничего не поняв, ничего не
осознав, он почувствовал страх. Лишающий разума леденящий страх одиночества.
— Видишь, я нормальная женщина. — Странная и неуместная нотка гордости
прозвучала в голосе Мирры. — Я — нормальная женщина, и случилось то, что должно было
случиться. Вероятно это — счастье, даже, наверное, это — огромное счастье, но за счастье
надо платить.
— Не уходи, — с тупым отчаянием сказал он. — Только не уходи.
Он не думал, что говорит: в нем кричало отчаяние. Мирра медленно покачала головой:
— Нельзя.
— Да, да, я понимаю, понимаю.
Он уже отстранялся от нее, он уже погружался в свое одиночество. Она придвинулась
еще ближе, прильнула к нему, гладила по заросшим впалым щекам, целовала: он сидел, не
шевелясь, словно окаменев.
Так они сидели долго. Мирра ничего не объясняла, ничего не доказывала, понимая, что
он тоже должен свыкнуться с этим, как свыклась она. А Плужникову хотелось кричать,
хотелось вылезти наверх, хотелось выпустить в немцев все снаряженные диски, хотелось
погибнуть, потому что боль, которую он испытывал сейчас, была страшнее смерти. Но он
сидел и терпеливо ждал, когда все пройдет. Он знал, что все пройдет: он уже мог вынести
все, что возможно, и что невозможно мог вынести тоже.
Наконец он вздохнул и шевельнулся. Мирра ждала этого вздоха и сразу заговорила
тихим, печальным голосом, словно уже прощаясь навсегда: