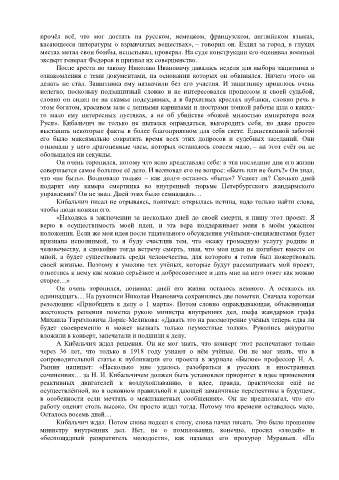Page 55 - Этюды о ученых
P. 55
прочёл всё, что мог достать на русском, немецком, французском, английском языках,
касающееся литературы о взрывчатых веществах», – говорил он. Ездил за город, в глухих
местах метал свои бомбы, испытывал, проверял. На суде конструкции его оценивал военный
эксперт генерал Федоров и признал их совершенство.
После ареста по закону Николаю Ивановичу давалась неделя для выбора защитника и
ознакомления с теми документами, на основании которых он обвинялся. Ничего этого он
делать не стал. Защитника ему назначили без его участия. И защитнику пришлось очень
нелегко, поскольку подзащитный словно и не интересовался процессом и своей судьбой,
словно он сидел не на скамье подсудимых, а в бархатных креслах публики, словно речь в
этом богатом, красивом зале с лепными карнизами и люстрами тонкой работы шла о каких-
то мало ему интересных пустяках, а не об убийстве «божей милостью императора всея
Руси». Кибальчич не только не пытался оправдаться, выгородить себя, но даже просто
выставить некоторые факты в более благоприятном для себя свете. Единственной заботой
его было максимально сократить время всех этих допросов и судебных заседаний. Они
отнимали у него драгоценные часы, которых оставалось совсем мало, – на этот счёт он не
обольщался ни секунды.
Он очень торопился, потому что ясно представлял себе: в эти последние дни его жизни
совершается самое большое её дело. И волновал его не вопрос: «Быть или не быть?» Он знал,
что «не быть». Волновало только – как долго осталось «быть»? Успеет ли? Сколько дней
подарит ему камера смертника во внутренней тюрьме Петербургского жандармского
управления? Он не знал. Дней этих было семнадцать…
Кибальчич писал не отрываясь, понимал: открылась истина, надо только найти слова,
чтобы люди поняли его.
«Находясь в заключении за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект. Я
верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моём ужасном
положении. Если же моя идея после тщательного обсуждения учёными-специалистами будет
признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу родине и
человечеству, я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со
мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать
своей жизнью. Поэтому я умоляю тех учёных, которые будут рассматривать мой проект,
отнестись к нему как можно серьёзнее и добросовестнее и дать мне на него ответ как можно
скорее…»
Он очень торопился, понимал: дней его жизни осталось немного. А осталось их
одиннадцать… На рукописи Николая Ивановича сохранились две пометки. Сначала короткая
резолюция: «Приобщить к делу о 1 марта». Потом словно оправдывающая, объясняющая
жестокость решения пометка рукою министра внутренних дел, шефа жандармов графа
Михаила Тариэловича Лорис-Меликова: «Давать это на рассмотрение учёных теперь едва ли
будет своевременно и может вызвать только неуместные толки». Рукопись аккуратно
вложили в конверт, запечатали и подшили к делу.
А Кибальчич ждал решения. Он не мог знать, что конверт этот распечатают только
через 36 лет, что только в 1918 году узнают о нём учёные. Он не мог знать, что в
сопроводительной статье к публикации его проекта в журнале «Былое» профессор Н. А.
Рынин напишет: «Насколько мне удалось разобраться в русских и иностранных
сочинениях… за Н. И. Кибальчичем должен быть установлен приоритет в идее применения
реактивных двигателей к воздухоплаванию, в идее, правда, практически ещё не
осуществлённой, но в основном правильной и дающей заманчивые перспективы в будущем,
в особенности если мечтать о межпланетных сообщениях». Он не предполагал, что его
работу оценят столь высоко. Он просто ждал тогда. Потому что времени оставалось мало.
Осталось восемь дней…
Кибальчич ждал. Потом снова подсел к столу, снова начал писать. Это было прошение
министру внутренних дел. Нет, не о помиловании, конечно, просил «злодей» и
«беспощадный развратитель молодости», как называл его прокурор Муравьев. «По