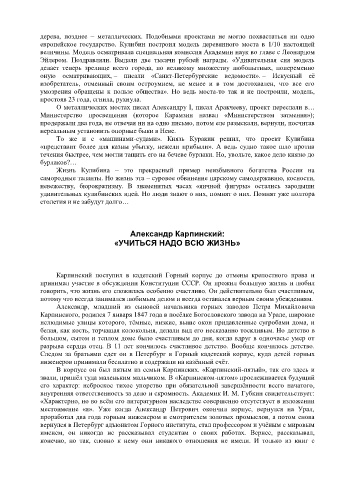Page 52 - Этюды о ученых
P. 52
дерева, позднее – металлических. Подобными проектами не могло похвастаться ни одно
европейское государство. Кулибин построил модель деревянного моста в 1/10 настоящей
величины. Модель осматривала специальная комиссия Академии наук во главе с Леонардом
Эйлером. Поздравляли. Выдали две тысячи рублей награды. «Удивительная сия модель
делает теперь зрелище всего города, по великому множеству любопытных, попеременно
оную осматривающих, – писали «Санкт-Петербургские ведомости». – Искусный её
изобретатель, отменный своим остроумием, не менее и в том достохвален, что все его
умозрения обращены к пользе общества». Но ведь моста-то так и не построили, модель,
простояв 23 года, сгнила, рухнула.
О металлических мостах писал Александру I, писал Аракчееву, проект переслали в…
Министерство просвещения (которое Карамзин назвал «Министерством затмения»);
продержали два года, не отвечая ни на одно письмо, потом еле разыскали, вернули, посчитав
нереальным установить опорные быки в Неве.
То же и с «машинами-судами». Князь Куракин решил, что проект Кулибина
«представит более для казны убытку, нежели прибыли». А ведь судно такое шло против
течения быстрее, чем могли тащить его на бечеве бурлаки. Но, увольте, какое дело князю до
бурлаков?…
Жизнь Кулибина – это прекрасный пример неизбывного богатства России на
самородные таланты. Но жизнь эта – суровое обвинение царскому самодержавию, косности,
невежеству, бюрократизму. В знаменитых часах «яичной фигуры» остались зародыши
удивительных кулибинских идей. Но люди знают о них, помнят о них. Помнят уже полтора
столетия и не забудут долго…
Александр Карпинский:
«УЧИТЬСЯ НАДО ВСЮ ЖИЗНЬ»
Карпинский поступил в кадетский Горный корпус до отмены крепостного права и
принимал участие в обсуждении Конституции СССР. Он прожил большую жизнь и любил
говорить, что жизнь его сложилась особенно счастливо. Он действительно был счастливым,
потому что всегда занимался любимым делом и всегда оставался верным своим убеждениям.
Александр, младший из сыновей начальника горных заводов Петра Михайловича
Карпинского, родился 7 января 1847 года в посёлке Богословского завода на Урале, широкие
нелюдимые улицы которого, тёмные, низкие, выше окон придавленные сугробами дома, и
белая, как кость, торчащая колокольня, делали вид его несказанно тоскливым. Но детство в
большом, сытом и теплом доме было счастливым до дня, когда вдруг в одночасье умер от
разрыва сердца отец. В 11 лет кончилось счастливое детство. Вообще кончилось детство.
Следом за братьями едет он в Петербург в Горный кадетский корпус, куда детей горных
инженеров принимали бесплатно и содержали на казённый счёт.
В корпусе он был пятым из семьи Карпинских. «Карпинский-пятый», так его здесь и
звали, пришёл туда маленьким мальчиком. В «Карпинском-пятом» прослеживается будущий
его характер: неброское тихое упорство при обязательной завершённости всего начатого,
внутренняя ответственность за дело и скромность. Академик И. М. Губкин свидетельствует:
«Характерно, но во всём его литературном наследстве совершенно отсутствует в изложении
местоимение «я». Уже когда Александр Петрович окончил корпус, вернулся на Урал,
проработал два года горным инженером и смотрителем золотых промыслов, а потом снова
вернулся в Петербург адъюнктом Горного института, стал профессором и учёным с мировым
именем, он никогда не рассказывал студентам о своих работах. Вернее, рассказывал,
конечно, но так, словно к нему они никакого отношения не имели. И только из книг с