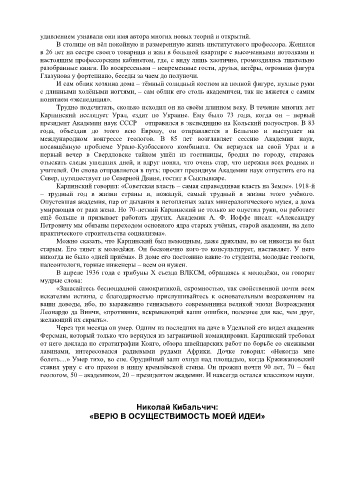Page 53 - Этюды о ученых
P. 53
удивлением узнавали они имя автора многих новых теорий и открытий.
В столице он вёл покойную и размеренную жизнь институтского профессора. Женился
в 26 лет на сестре своего товарища и жил в большой квартире с высоченными потолками и
настоящим профессорским кабинетом, где, с виду лишь хаотично, громоздились тщательно
разобранные книги. По воскресеньям – непременные гости, друзья, актёры, огромная фигура
Глазунова у фортепиано, беседы за чаем до полуночи.
И сам облик хозяина дома – тёмный солидный костюм на полной фигуре, пухлые руки
с длинными холёными ногтями, – сам облик его столь академичен, так не вяжется с самим
понятием «экспедиция».
Трудно подсчитать, сколько исходил он на своём длинном веку. В течение многих лет
Карпинский исследует Урал, ездит по Украине. Ему было 73 года, когда он – первый
президент Академии наук СССР – отправился в экспедицию на Кольский полуостров. В 83
года, объездив до этого всю Европу, он отправляется в Бельгию и выступает на
международном конгрессе геологов. В 85 лет возглавляет сессию Академии наук,
посвящённую проблеме Урало-Кузбасского комбината. Он вернулся на свой Урал и в
первый вечер в Свердловске тайком ушёл из гостиницы, бродил по городу, стараясь
отыскать следы ушедших дней, и вдруг понял, что очень стар, что пережил всех родных и
учителей. Он снова отправляется в путь: просит президиум Академии наук отпустить его на
Север, путешествует по Северной Двине, гостит в Сыктывкаре.
Карпинский говорил: «Советская власть – самая справедливая власть на Земле». 1918-й
– трудный год в жизни страны и, пожалуй, самый трудный в жизни этого учёного.
Опустевшая академия, пар от дыхания в нетопленых залах минералогического музея, а дома
умирающая от рака жена. Но 70-летний Карпинский не только не опустил руки, он работает
ещё больше и призывает работать других. Академик А. Ф. Иоффе писал: «Александру
Петровичу мы обязаны переходом основного ядра старых учёных, старой академии, на дело
практического строительства социализма».
Можно сказать, что Карпинский был немощным, даже дряхлым, но он никогда не был
старым. Его тянет к молодёжи. Он бесконечно кого-то консультирует, наставляет. У него
никогда не было «дней приёма». В доме его постоянно какие-то студенты, молодые геологи,
палеонтологи, горные инженеры – всем он нужен.
В апреле 1936 года с трибуны X съезда ВЛКСМ, обращаясь к молодёжи, он говорит
мудрые слова:
«Запасайтесь беспощадной самокритикой, скромностью, так свойственной почти всем
искателям истины, с благодарностью прислушивайтесь к основательным возражениям на
ваши доводы, ибо, по выражению гениального современника великой эпохи Возрождения
Леонардо да Винчи, «противник, вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, чем друг,
желающий их скрыть».
Через три месяца он умер. Одним из последних на даче в Удельной его видел академик
Ферсман, который только что вернулся из заграничной командировки. Карпинский требовал
от него доклада по стратиграфии Конго, обзора швейцарских работ по борьбе со снежными
лавинами, интересовался радиевыми рудами Африки. Дочке говорил: «Некогда мне
болеть…» Умер тихо, во сне. Орудийный залп охнул над площадью, когда Кржижановский
ставил урну с его прахом в нишу кремлёвской стены. Он прожил почти 90 лет, 70 – был
геологом, 50 – академиком, 20 – президентом академии. И навсегда остался классиком науки.
Николай Кибальчич:
«ВЕРЮ В ОСУЩЕСТВИМОСТЬ МОЕЙ ИДЕИ»