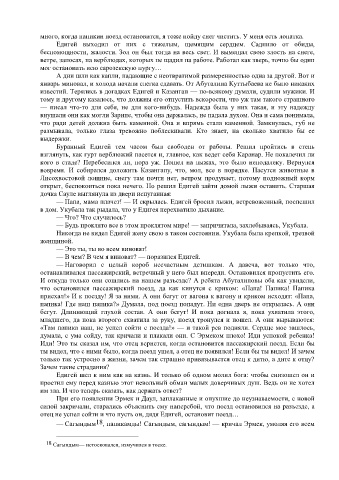Page 99 - И дольше века длится день
P. 99
много, когда папикин поезд остановится, я тоже пойду снег чистить. У меня есть лопатка.
Едигей выходил от них с тяжелым, щемящим сердцем. Саднило от обиды,
беспомощности, жалости. Зол он был тогда на весь свет. И вымещал свою злость на снеге,
ветре, заносах, на верблюдах, которых не щадил на работе. Работал как зверь, точно бы один
мог остановить всю сарозекскую пургу…
А дни шли как капли, падающие с неотвратимой размеренностью одна за другой. Вот и
январь миновал, и холода начали слегка сдавать. От Абуталипа Куттыбаева не было никаких
известий. Терялись в догадках Едигей и Казангап — по-всякому думали, судили мужики. И
тому и другому казалось, что должны его отпустить вскорости, что уж там такого страшного
— писал что-то для себя, не для кого-нибудь. Надежда была у них такая, и эту надежду
внушали они как могли Зарипе, чтобы она держалась, не падала духом. Она и сама понимала,
что ради детей должна быть каменной. Она и впрямь стала каменной. Замкнулась, губ не
размыкала, только глаза тревожно поблескивали. Кто знает, на сколько хватило бы ее
выдержки.
Буранный Едигей тем часом был свободен от работы. Решил пройтись в степь
взглянуть, как гурт верблюжий пасется и, главное, как ведет себя Каранар. Не покалечил ли
кого в стаде? Перебесился ли, пора уж. Пошел на лыжах, это было неподалеку. Вернулся
вовремя. И собирался доложить Казангапу, что, мол, все в порядке. Пасутся животные в
Лисохвостовой лощине, снегу там почти нет, ветром продувает, потому подножный корм
открыт, беспокоиться пока нечего. Но решил Едигей зайти домой лыжи оставить. Старшая
дочка Сауле выглянула из двери испуганная:
— Папа, мама плачет! — И скрылась. Едигей бросил лыжи, встревоженный, поспешил
в дом. Укубала так рыдала, что у Едигея перехватило дыхание.
— Что? Что случилось?
— Будь проклято все в этом проклятом мире! — запричитала, захлебываясь, Укубала.
Никогда не видел Едигей жену свою в таком состоянии. Укубала была крепкой, трезвой
женщиной.
— Это ты, ты во всем виноват!
— В чем? В чем я виноват? — поразился Едигей.
— Наговорил с целый короб несчастным детишкам. А давеча, вот только что,
останавливался пассажирский, встречный у него был впереди. Остановился пропустить его.
И откуда только они сошлись на нашем разъезде? А ребята Абуталиповы оба как увидели,
что остановился пассажирский поезд, да как кинутся с криком: «Папа! Папика! Папика
приехал!» И к поезду! Я за ними. А они бегут от вагона к вагону и криком исходят: «Папа,
папика! Где наш папика?» Думала, под поезд попадут. Ни одна дверь не открылась. А они
бегут. Длиннющий глухой состав. А они бегут! И пока догнала я, пока ухватила этого,
младшего, да пока второго схватила за руку, поезд тронулся и пошел. А они вырываются:
«Там папика наш, не успел сойти с поезда!» — и такой рев подняли. Сердце мое зашлось,
думала, с ума сойду, так кричали и плакали они. С Эрмеком плохо! Иди успокой ребенка!
Иди! Это ты сказал им, что отец вернется, когда остановится пассажирский поезд. Если бы
ты видел, что с ними было, когда поезд ушел, а отец не появился! Если бы ты видел! И зачем
только так устроено в жизни, зачем так страшно привязывается отец к дитю, а дите к отцу?
Зачем такие страдания?
Едигей шел к ним как на казнь. И только об одном молил бога: чтобы снизошел он и
простил ему перед казнью этот невольный обман малых доверчивых душ. Ведь он не хотел
им зла. И что теперь сказать, как держать ответ?
При его появлении Эрмек и Даул, заплаканные и опухшие до неузнаваемости, с новой
силой закричали, старались объяснить ему наперебой, что поезд остановился на разъезде, а
отец не успел сойти и что пусть он, дядя Едигей, остановит поезд…
18
— Сагындым , папикамды! Сагындым, сагындым! — кричал Эрмек, умоляя его всем
18 Сагындым— истосковался, измучился в тоске.