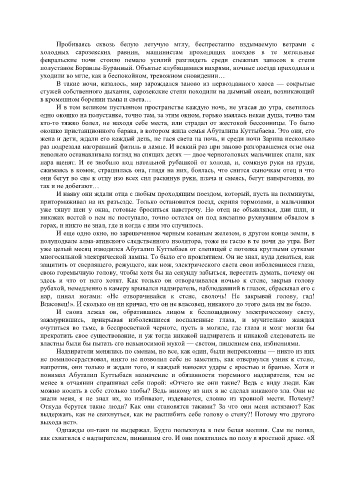Page 101 - И дольше века длится день
P. 101
Пробиваясь сквозь белую летучую мглу, беспрестанно вздымаемую ветрами с
холодных сарозекских равнин, машинистам проходящих поездов в те метельные
февральские ночи стоило немало усилий разглядеть среди снежных заносов в степи
полустанок Боранлы-Буранный. Объятые клубящимися вихрями, ночные поезда приходили и
уходили во мгле, как в беспокойном, тревожном сновидении…
В такие ночи, казалось, мир зарождался заново из первозданного хаоса — сокрытые
стужей собственного дыхания, сарозекские степи походили на дымный океан, возникающий
в кромешном борении тьмы и света…
И в том великом пустынном пространстве каждую ночь, не угасая до утра, светилось
одно окошко на полустанке, точно там, за этим окном, горько маялась некая душа, точно там
кто-то тяжко болел, не находя себе места, или страдал от жестокой бессонницы. То было
окошко пристанционного барака, в котором жила семья Абуталипа Куттыбаева. Это они, его
жена и дети, ждали его каждый день, не гася света на ночь, и среди ночи Зарипа несколько
раз подрезала нагоравший фитиль в лампе. И всякий раз при заново разгоравшемся огне она
невольно останавливала взгляд на спящих детях — двое черноголовых мальчишек спали, как
пара щенят. И ее знобило под нательной рубашкой от холода, и, сомкнув руки на груди,
сжимаясь в комок, страшилась она, глядя на них, боялась, что снится сыночкам отец и что
они бегут во сне к отцу изо всех сил раскинув руки, плача и смеясь, бегут наперегонки, но
так и не добегают…
И наяву они ждали отца с любым проходящим поездом, который, пусть на полминуты,
притормаживал на их разъезде. Только остановится поезд, скрипя тормозами, а мальчишки
уже тянут шеи у окна, готовые броситься навстречу. Но отец не объявлялся, дни шли, и
никаких вестей о нем не поступало, точно остался он под внезапно рухнувшим обвалом в
горах, и никто не знал, где и когда с ним это случилось.
И еще одно окно, но зарешеченное черным кованым железом, в другом конце земли, в
полуподвале алма-атинского следственного изолятора, тоже не гасло в те ночи до утра. Вот
уже целый месяц изводился Абуталип Куттыбаев от слепящей с потолка круглыми сутками
многосильной электрической лампы. То было его проклятием. Он не знал, куда деваться, как
защитить от сверлящего, режущего, как нож, электрического света свои изболевшиеся глаза,
свою горемычную голову, чтобы хотя бы на секунду забыться, перестать думать, почему он
здесь и что от него хотят. Как только он отворачивался ночью к стене, закрыв голову
рубахой, немедленно в камеру врывался надзиратель, наблюдавший в глазок, сбрасывал его с
нар, пинал ногами: «Не отворачивайся к стене, сволочь! Не закрывай голову, гад!
Власовец!». И сколько он ни кричал, что он не власовец, никакого до этого дела им не было.
И снова лежал он, обратившись лицом к беспощадному электрическому свету,
зажмурившись, прикрывая изболевшиеся воспаленные глаза, и мучительно жаждал
очутиться во тьме, в беспросветной черноте, пусть в могиле, где глаза и мозг могли бы
прекратить свое существование, и уж тогда никакой надзиратель и никакой следователь не
властны были бы пытать его невыносимой мукой — светом, лишением сна, избиениями.
Надзиратели менялись по сменам, но все, как один, были непреклонны — никто из них
не помилосердствовал, никто не позволил себе не заметить, как отвернулся узник к стене,
напротив, они только и ждали того, и каждый наносил удары с яростью и бранью. Хотя и
понимал Абуталип Куттыбаев назначение и обязанности тюремного надзирателя, тем не
менее в отчаянии спрашивал себя порой: «Отчего же они такие? Ведь с виду люди. Как
можно носить в себе столько злобы? Ведь никому из них я не сделал никакого зла. Они не
знали меня, я не знал их, но избивают, издеваются, словно из кровной мести. Почему?
Откуда берутся такие люди? Как они становятся такими? За что они меня истязают? Как
выдержать, как не свихнуться, как не расшибить себе голову о стену?! Потому что другого
выхода нет».
Однажды он-таки не выдержал. Будто полыхнула в нем белая молния. Сам не понял,
как схватился с надзирателем, пинавшим его. И они покатились по полу в яростной драке. «Я