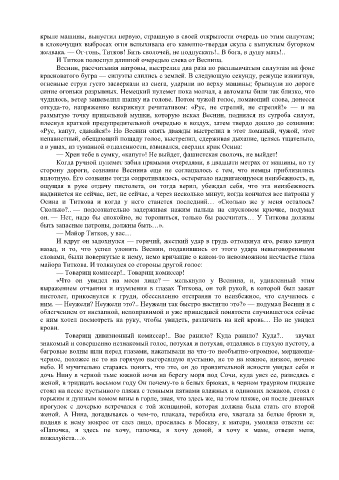Page 130 - Горячий снег
P. 130
крыле машины, выпустил первую, страшную в своей открытости очередь по этим силуэтам;
в клокочущих выбросах огня вспыхивала его каменно-твердая скула с выпуклым бугорком
желвака. — Ог-гонь, Титков! Бить сволочей, не подпускать!.. В бога, в душу мать!..
И Титков полоснул длинной очередью слева от Веснина.
Веснин, рассчитывая патроны, выстрелил два раза по расплывчатым силуэтам на фоне
красноватого бугра — силуэты слились с землей. В следующую секунду, режуще взвизгнув,
огненные струи густо засверкали из снега, ударили по верху машины; брызнули по дороге
синие огоньки разрывных. Немецкий пулемет пока молчал, а автоматы били так близко, что
чудилось, ветер зашевелил шапку на голове. Потом чужой голос, ломающий слова, донесся
откуда-то, напряженно выкрикнул речитативом: «Рус, не стреляй, не стреляй!» — и на
размытую точку прицельной мушки, которую искал Веснин, поднялся из сугроба силуэт,
плеснул краткой предупредительной очередью в воздух, затем твердо дошло до сознания:
«Рус, капут, сдавайся!» Но Веснин опять дважды выстрелил в этот ломаный, чужой, этот
ненавистный, обещающий пощаду голос, выстрелил, сдерживая дыхание, целясь тщательно,
а в ушах, из туманной отдаленности, взвивался, сверлил крик Осина:
— Хрен тебе в сумку, «капут»! Не выйдет, фашистская сволочь, не выйдет!
Когда ручной пулемет забил прямыми очередями, в двадцати метрах от машины, по ту
сторону дороги, сознание Веснина еще не соглашалось с тем, что немцы приблизились
вплотную. Его сознание тогда сопротивлялось, остерегало надвигающуюся неизбежность, и,
ощущая в руке отдачу пистолета, он тогда верил, убеждал себя, что эта неизбежность
надвинется не сейчас, нет, не сейчас, а через несколько минут, когда кончатся все патроны у
Осина и Титкова и когда у него станется последний… «Сколько же у меня осталось?
Сколько?.. — подсознательно задерживая нажим пальца на спусковом крючке, подумал
он. — Нет, надо бы спокойно, не торопиться, только бы рассчитать… У Титкова должны
быть запасные патроны, должны быть…».
— Майор Титков, у вас…
И вдруг он задохнулся — горячий, жесткий удар в грудь оттолкнул его, резко качнул
назад, и то, что успел уловить Веснин, подавившись от этого удара невыговоренными
словами, были повернутые к нему, немо кричащие о каком-то невозможном несчастье глаза
майора Титкова. И толкнулся со стороны другой голос:
— Товарищ комиссар!.. Товарищ комиссар!
«Что он увидел на моем лице? — мелькнуло у Веснина, и, удивленный этим
выражением отчаяния и изумления в глазах Титкова, он той рукой, в которой был зажат
пистолет, прикоснулся к груди, обессиленно отстраняя то неизбежное, что случилось с
ним. — Неужели? Неужели это?.. Неужели так быстро настигло это?» — подумал Веснин и с
облегчением от внезапной, непоправимой и уже пришедшей понятости случившегося сейчас
с ним хотел посмотреть на руку, чтобы увидеть, различить на ней кровь… Но не увидел
крови.
— Товарищ дивизионный комиссар!.. Вас ранило? Куда ранило? Куда?.. — звучал
знакомый и совершенно незнакомый голос, потухая и потухая, отдаляясь в глухую пустоту, а
багровые волны шли перед глазами, накатывали на что-то необъятно-огромное, мерцающе-
черное, похожее не то на горячую выгоревшую пустыню, не то на южное, низкое, ночное
небо. И мучительно стараясь понять, что это, он до пронзительной ясности увидел себя и
дочь Нину в черной тьме южной ночи на берегу моря под Сочи, куда увез ее, разведясь с
женой, в тридцать восьмом году Он почему-то в белых брюках, в черном траурном пиджаке
стоял на песке пустынного пляжа с темными пятнами влажных и одиноких лежаков, стоял с
горьким и душным комом вины в горле, зная, что здесь же, на этом пляже, он после дневных
прогулок с дочерью встречался с той женщиной, которая должна была стать его второй
женой. А Нина, догадываясь о чем-то, плакала, теребила его, хватала за белые брюки и,
подняв к нему мокрое от слез лицо, просилась в Москву, к матери, умоляла отвезти ее:
«Папочка, я здесь не хочу, папочка, я хочу домой, я хочу к маме, отвези меня,
пожалуйста…».