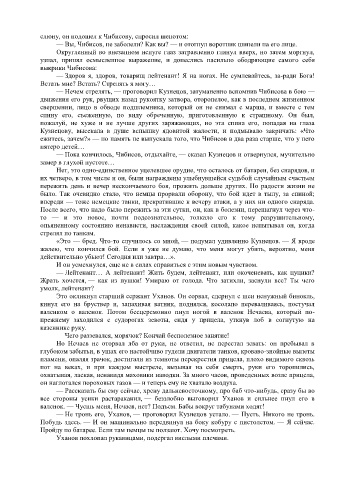Page 133 - Горячий снег
P. 133
слюну, он подошел к Чибисову, спросил шепотом:
— Вы, Чибисов, не заболели? Как вы? — и отогнул воротник шинели на его лице.
Округленный во внезапном испуге глаз затравленно глянул вверх, но затем моргнул,
узнал, принял осмысленное выражение, и донеслись насильно ободряющие самого себя
выкрики Чибисова:
— Здоров я, здоров, товарищ лейтенант! Я на ногах. Не сумлевайтесь, за-ради Бога!
Встать мне? Встать? Стрелять я могу…
— Нечем стрелять, — проговорил Кузнецов, затуманенно вспомнив Чибисова в бою —
движения его рук, рвущих назад рукоятку затвора, оторопелое, как в последнем жизненном
свершении, лицо в обводе подшлемника, который он не снимал с марша, и вместе с тем
спину его, съеженную, по виду обреченную, приготовленную к страшному. Он был,
пожалуй, не хуже и не лучше других заряжающих, но эта спина его, попадая на глаза
Кузнецову, высекала в душе вспышку ядовитой жалости, и подмывало закричать: «Что
ежитесь, зачем?» — но память не выпускала того, что Чибисов в два раза старше, что у него
пятеро детей…
— Пока кончилось, Чибисов, отдыхайте, — сказал Кузнецов и отвернулся, мучительно
замер в глухой пустоте…
Нет, это одно-единственное уцелевшее орудие, что осталось от батареи, без снарядов, и
их четверо, в том числе и он, были награждены улыбнувшейся судьбой случайным счастьем
пережить день и вечер нескончаемого боя, прожить дольше других. Но радости жизни не
было. Так очевидно стало, что немцы прорвали оборону, что бой идет в тылу, за спиной;
впереди — тоже немецкие танки, прекратившие к вечеру атаки, а у них ни одного снаряда.
После всего, что надо было пережить за эти сутки, он, как в болезни, перешагнул через что-
то — и это новое, почти подсознательное, толкало его к тому разрушительному,
опьяненному состоянию ненависти, наслаждения своей силой, какое испытывал он, когда
стрелял по танкам.
«Это — бред. Что-то случилось со мной, — подумал удивленно Кузнецов. — Я вроде
жалею, что кончился бой. Если я уже не думаю, что меня могут убить, вероятно, меня
действительно убьют! Сегодня или завтра…».
И он усмехнулся, еще не в силах справиться с этим новым чувством.
— Лейтенант… А лейтенант! Жить будем, лейтенант, или окоченевать, как цуцики?
Жрать хочется, — как из пушки! Умираю от голода. Что затихли, заснули все? Ты чего
умолк, лейтенант?
Это окликнул старший сержант Уханов. Он сорвал, сдернул с шеи ненужный бинокль,
кинул его на бруствер и, запахивая ватник, поднялся, косолапо переваливаясь, постучал
валенком о валенок. Потом бесцеремонно пнул ногой в валенок Нечаева, который по-
прежнему заходился с судорогах зевоты, сидя у прицела, уткнув лоб в согнутую на
казеннике руку.
— Чего раззевался, морячок? Кончай бесполезное занятие!
Но Нечаев не оторвал лба от руки, не ответил, не перестал зевать: он пребывал в
глубоком забытьи, в ушах его настойчиво гудели двигатели танков, кроваво-знойные вылеты
пламени, опаляя зрачок, достигали из темноты перекрестия прицела, плохо видимого сквозь
пот на веках, и при каждом выстреле, вызывая на себя смерть, руки его торопились,
охватывая, лаская, ненавидя маховики наводки. За много часов, проведенных возле прицела,
он наглотался пороховых газов — и теперь ему не хватало воздуха.
— Рассказать бы ему сейчас, хрену дальневосточному, про баб что-нибудь, сразу бы во
все стороны усики растараканил, — беззлобно выговорил Уханов и сильнее пнул его в
валенок. — Чуешь меня, Нечаев, нет? Подъем. Бабы вокруг табунами ходят!
— Не тронь его, Уханов, — проговорил Кузнецов устало. — Пусть. Никого не тронь.
Побудь здесь. — И он машинально передвинул на боку кобуру с пистолетом. — Я сейчас.
Пройду по батарее. Если там немцы не ползают. Хочу посмотреть.
Уханов похлопал рукавицами, подергал вислыми плечами.