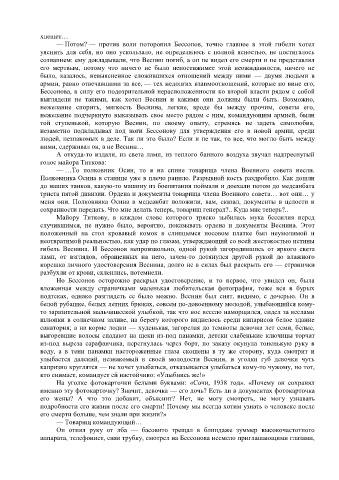Page 189 - Горячий снег
P. 189
хлещет…
— Потом? — против воли поторопил Бессонов, точно главное в этой гибели хотел
уяснить для себя, но оно ускользало, не определялось с полной ясностью, не постигалось
сознанием: ему докладывали, что Веснин погиб, а он не видел его смерти и не представлял
его мертвым, потому что ничего не было непостижимее этой неожиданности, ничего не
было, казалось, невыясненное сложившихся отношений между ними — двумя людьми в
армии, равно отвечавшими за все, — тех недолгих взаимоотношений, которые по вине его,
Бессонова, в силу его подозрительной нерасположенности ко второй власти рядом с собой
выглядели не такими, как хотел Веснин и какими они должны были быть. Возможно,
нежелание спорить, мягкость Веснина, легкие, вроде бы между прочим, советы его,
нежелание подчеркнуто выказывать свое место рядом с ним, командующим армией, были
той ступенькой, которую Веснин, по своему опыту, стремясь не задеть самолюбия,
незаметно подкладывал под ноги Бессонову для утверждения его в новой армии, среди
людей, незнакомых в деле. Так ли это было? Если и не так, то все, что могло быть между
ними, сдерживал он, а не Веснин…
А откуда-то издали, из света ламп, из теплого банного воздуха звучал надтреснутый
голос майора Титкова:
— …То полковник Осин, то я на спине товарища члена Военного совета несли.
Полковника Осина в станице уже в плечо ранило. Разрывной кость раздробило. Как дошли
до наших танков, какую-то машину из боепитания поймали и доехали потом до медсанбата
триста пятой дивизии. Ордена и документы товарища члена Военного совета… вот они… у
меня они. Полковника Осина в медсанбат положили, вам, сказал, документы в целости и
сохранности передать. Что мне делать теперь, товарищ генерал?.. Куда мне теперь?..
Майору Титкову, в каждом слове которого тряско зыбилась мука бессилия перед
случившимся, не нужно было, вероятно, показывать ордена и документы Веснина. Этот
положенный на стол кровавый комок в слипшемся носовом платке был неумолимой и
неотвратимой реальностью, как удар по глазам, утверждающий со всей жестокостью истины
гибель Веснина. И Бессонов непроизвольно, одной рукой загородившись от яркого света
ламп, от взглядов, обращенных на него, зачем-то дотянулся другой рукой до влажного
корешка личного удостоверения Веснина, долго не в силах был раскрыть его — странички
разбухли от крови, склеились, потемнели.
Но Бессонов осторожно раскрыл удостоверение, и то первое, что увидел он, была
вложенная между страничками маленькая любительская фотография, тоже вся в бурых
подтеках, однако разглядеть ее было можно. Веснин был снят, видимо, с дочерью. Он в
белой рубашке, белых летних брюках, совсем по-довоенному молодой, улыбающийся кому-
то заразительной мальчишеской улыбкой, так что нос весело наморщился, сидел за веслами
шлюпки в солнечном заливе, на берегу которого виднелось среди кипарисов белое здание
санатория; а на корме лодки — худенькая, загорелая до темноты девочка лет семи, белые,
выгоревшие волосы спадают на щеки из-под панамки, детски слабенькие ключицы торчат
из-под выреза сарафанчика, перегнулась через борт, по заказу окунула тоненькую руку в
воду, а в тени панамки настороженные глаза скошены в ту же сторону, куда смотрит и
улыбается далекий, незнакомый в своей молодости Веснин, и уголки губ девочки чуть
капризно круглятся — не хочет улыбаться, отказывается улыбаться кому-то чужому, но тот,
кто снимает, командует ей настойчиво: «Улыбнись же!»
На уголке фотокарточки белыми буквами: «Сочи, 1938 год». «Почему он сохранял
именно эту фотокарточку? Значит, девочка — его дочь? Есть ли в документах фотокарточка
его жены? А что это добавит, объяснит? Нет, не могу смотреть, не могу узнавать
подробности его жизни после его смерти! Почему мы всегда хотим узнать о человеке после
его смерти больше, чем знали при жизни?»
— Товарищ командующий…
Он отнял руку от лба — басовито трещал в блиндаже зуммер высокочастотного
аппарата, телефонист, сняв трубку, смотрел на Бессонова несмело приглашающими глазами,