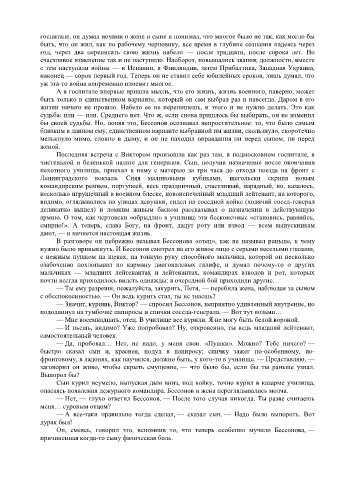Page 38 - Горячий снег
P. 38
госпитале, он думал ночами о жене и сыне и понимал, что многое было не так, как могло бы
быть, что он жил, как по рабочему черновику, все время в глубине сознания надеясь через
год, через два переписать свою жизнь набело — после тридцати, после сорока лет. Но
счастливое изменение так и не наступило. Наоборот, повышались звания, должности, вместе
с тем наступали войны — в Испании, в Финляндии, затем Прибалтика, Западная Украина,
наконец — сорок первый год. Теперь он не ставил себе юбилейных сроков, лишь думал, что
уж эта-то война непременно изменит многое.
А в госпитале впервые пришла мысль, что его жизнь, жизнь военного, наверно, может
быть только в единственном варианте, который он сам выбрал раз и навсегда. Даром в его
жизни ничего не прошло. Набело ее не перепишешь, и этого и не нужно делать. Это как
судьба: или — или. Среднего нет. Что ж, если снова пришлось бы выбирать, он не изменил
бы своей судьбы. Но, поняв это, Бессонов осознавал непростительное: то, что было самым
близким в данном ему, единственном варианте выбранной им жизни, скользнуло, скоротечно
мелькнуло мимо, словно в дыму, и он не находил оправдания ни перед сыном, ни перед
женой.
Последняя встреча с Виктором произошла как раз там, в подмосковном госпитале, в
чистенькой и беленькой палате для генералов. Сын, получив назначение после окончания
пехотного училища, приехал к нему с матерью за три часа до отхода поезда на фронт с
Ленинградского вокзала. Сияя малиновыми кубиками, щегольски скрипя новым
командирским ремнем, портупеей, весь праздничный, счастливый, парадный, но, казалось,
несколько игрушечный в военном блеске, новоиспеченный младший лейтенант, на которого,
видимо, оглядывались на улицах девушки, сидел на соседней койке (ходячий сосед-генерал
деликатно вышел) и ломким живым баском рассказывал о назначении в действующую
армию. О том, как чертовски «обрыдли» в училище эти бесконечные «становись, равняйсь,
смирно!». А теперь, слава Богу, на фронт, дадут роту или взвод — всем выпускникам
дают, — и начнется настоящая жизнь.
В разговоре он небрежно называл Бессонова «отец», как не называл раньше, к чему
нужно было привыкнуть. И Бессонов смотрел на его живое лицо с серыми веселыми глазами,
с нежным пушком на щеках, на тонкую руку способного мальчика, которой он несколько
озабоченно похлопывал по карману диагоналевых галифе, и думал почему-то о других
мальчиках — младших лейтенантах и лейтенантах, командирах взводов и рот, которых
почти всегда приходилось видеть однажды: в очередной бой приходили другие…
— Ты ему разреши, пожалуйста, закурить, Петя, — перебила жена, наблюдая за сыном
с обеспокоенностью. — Он ведь курить стал, ты не знаешь?
— Значит, куришь, Виктор? — спросил Бессонов, неприятно удивленный внутренне, но
пододвинул на тумбочке папиросы и спички соседа-генерала. — Вот тут возьми…
— Мне восемнадцать, отец. В училище все курили. Я не могу быть белой вороной.
— И пьешь, видимо? Уже попробовал? Ну, откровенно, ты ведь младший лейтенант,
самостоятельный человек.
— Да, пробовал… Нет, не надо, у меня свои. «Пушки». Можно? Тебе ничего? —
быстро сказал сын и, краснея, подул в папиросу; спичку зажег по-особенному, по-
фронтовому, в ладонях, как научился, должно быть, у кого-то в училище. — Представляю, —
заговорил он живо, чтобы скрыть смущение, — что было бы, если бы ты раньше узнал.
Выпорол бы?
Сын курил неумело, выпуская дым вниз, под койку, точно курил в казарме училища,
опасаясь появления дежурного командира. Бессонов и жена переглядывались молча.
— Нет, — глухо ответил Бессонов. — После того случая никогда. Ты разве считаешь
меня… суровым отцом?
— А все-таки правильно тогда сделал, — сказал сын. — Надо было выпороть. Вот
дурак был!
Он, смеясь, говорил это, вспомнив то, что теперь особенно мучило Бессонова, —
причиненная когда-то сыну физическая боль.