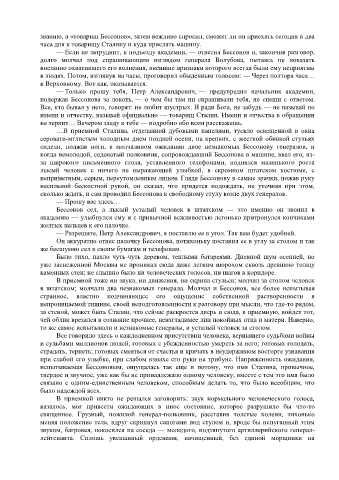Page 42 - Горячий снег
P. 42
званию, а «товарищ Бессонов», затем вежливо спросил, сможет ли он приехать сегодня в два
часа дня к товарищу Сталину и куда прислать машину.
— Если не затруднит, к подъезду академии, — ответил Бессонов и, закончив разговор,
долго молчал под спрашивающим взглядом генерала Волубова, пытаясь не показать
внезапно охватившего его волнения, внешние признаки которого всегда были ему неприятны
в людях. Потом, взглянув на часы, проговорил обыденным голосом: — Через полтора часа…
к Верховному. Вот как, оказывается.
— Только прошу тебя, Петр Александрович, — предупредил начальник академии,
подержав Бессонова за локоть, — о чем бы там ни спрашивали тебя, не спеши с ответом.
Все, кто бывал у него, говорят: не любит шустрых. И ради Бога, не забудь — не называй по
имени и отчеству, называй официально — товарищ Сталин. Имени и отчества в обращении
не терпит… Вечером заеду к тебе — подробно обо всем расскажешь.
…В приемной Сталина, отделанной дубовыми панелями, тускло освещенной в окна
серовато-мглистым холодным днем поздней осени, на крепких, с жесткой обивкой стульях
сидели, поджав ноги, в молчаливом ожидании двое незнакомых Бессонову генералов, и
когда немолодой, седоватый полковник, сопровождавший Бессонова в машине, ввел его, из-
за широкого письменного стола, уставленного телефонами, поднялся маленького роста
лысый человек с ничего не выражающей улыбкой, в скромном штатском костюме, с
неприметным, серым, переутомленным лицом. Глядя Бессонову в самые зрачки, пожав руку
несильной бескостной рукой, он сказал, что придется подождать, не уточняя при этом,
сколько ждать, и сам проводил Бессонова к свободному стулу возле двух генералов.
— Прошу вас здесь…
Бессонов сел, а лысый усталый человек в штатском — это именно он звонил в
академию — улыбнулся ему и с привычной вежливостью легонько притронулся кончиками
желтых пальцев к его палочке.
— Разрешите, Петр Александрович, я поставлю ее в угол. Так вам будет удобней.
Он аккуратно отнес палочку Бессонова, потихоньку поставил ее в углу за столом и так
же бесшумно сел к своим бумагам и телефонам.
Было тихо, пахло чуть-чуть деревом, теплыми батареями. Дневной шум осенней, но
уже заснеженной Москвы не проникал сюда даже легким шорохом сквозь древнюю толщу
каменных стен; не слышно было ни человеческих голосов, ни шагов в коридоре.
В приемной тоже ни звука, ни движения, ни скрипа стульев; молчал за столом человек
в штатском; молчали два незнакомых генерала. Молчал и Бессонов, все более испытывая
странное, властно подчиняющее его ощущение собственной растворенности в
непроницаемой тишине, своей неподготовленности к разговору при мысли, что где-то рядом,
за стеной, может быть Сталин, что сейчас раскроется дверь и сюда, в приемную, войдет тот,
чей облик врезался в сознание прочнее, неизгладимее лиц покойных отца и матери. Наверно,
то же самое испытывали и незнакомые генералы, и усталый человек за столом.
Все говорило здесь о каждодневном присутствии человека, вершащего судьбами войны
и судьбами миллионов людей, готовых с убежденностью умереть за него; готовых голодать,
страдать, терпеть; готовых смеяться от счастья и кричать в неудержимом восторге узнавания
при слабой его улыбке, при слабом взмахе его руки на трибуне. Напряженность ожидания,
испытываемая Бессоновым, ощущалась так еще и потому, что имя Сталина, привычное,
твердое и звучное, уже как бы не принадлежало одному человеку; вместе с тем это имя было
связано с одним-единственным человеком, способным делать то, что было всеобщим, что
было надеждой всех.
В приемной никто не решался заговорить: звук нормального человеческого голоса,
казалось, мог привести ожидающих в иное состояние, которое разрушило бы что-то
священное. Грузный, пожилой генерал-полковник, расставив толстые колени, тихонько
меняя положение тела, вдруг скрипнул сапогами под стулом и, вроде бы испуганный этим
звуком, багровея, покосился на соседа — молодого, подтянутого артиллерийского генерал-
лейтенанта. Сплошь увешанный орденами, начищенный, без единой морщинки на