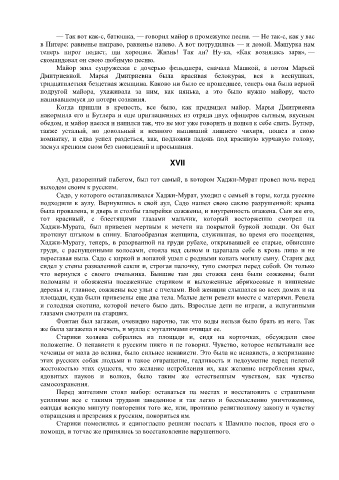Page 44 - Хаджи Мурат
P. 44
— Так вот как-с, батюшка, — говорил майор в промежутке песни. — Не так-с, как у вас
в Питере: равненье направо, равненье налево. А вот потрудились — и домой. Машурка нам
теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как вознялась заря», —
скомандовал он свою любимую песню.
Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей
Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая белокурая, вся в веснушках,
тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной
подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто
напивавшемуся до потери сознания.
Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна
накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным
обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер,
также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою
комнатку, и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову,
заснул крепким сном без сновидений и просыпания.
XVII
Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед
выходом своим к русским.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские
подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша
была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его,
тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на
Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был
проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения,
Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие
груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не
переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед
сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только
что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были
поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые
деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на
площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела
и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными
глазами смотрели на старших.
Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так
же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое
положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все
чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание
этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой
жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс,
ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство
самосохранения.
Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными
усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное,
ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству
отвращения и презрения к русским, покориться им.
Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о
помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.