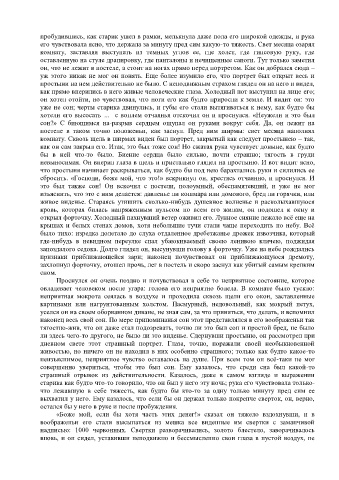Page 37 - Петербурские повести
P. 37
пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука
его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял
комнату, заставляя выступать из темных углов ее, где холст, где гипсовую руку, где
оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил
он, что не лежит в постеле, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда –
уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и
простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел,
как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его;
он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это
уже не сон; черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы
хотели его высосать … с воплем отчаянья отскочил он и проснулся. «Неужели и это был
сон?» С биющимся на-разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на
постеле в таком точно положеньи, как заснул. Пред ним ширмы: свет месяца наполнял
комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею – так,
как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто
бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди
невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно,
что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее
сбросить. «Господи, боже мой, что это!» вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся. И
это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог
изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара или домового, бред ли горячки, или
живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхавшуюся
кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и
открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало всё еще на
крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Всё
было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который
где-нибудь в невидном переулке спал убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая
запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались
признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту,
захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый самым крепким
сном.
Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое
овладевает человеком после угара: голова его неприятно болела. В комнате было тускло:
неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные
картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух,
уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил
наконец весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображеньи так
тягостно-жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было
ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при
дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной
живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного; только как будто какое-то
неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он всё-таки не мог
совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то
страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении
старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только-
что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее
выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно,
остался бы у него в руке и после пробуждения.
«Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» сказал он тяжело вздохнувши, и в
воображеньи его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой
надписью: 1000 червонных. Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось
вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не