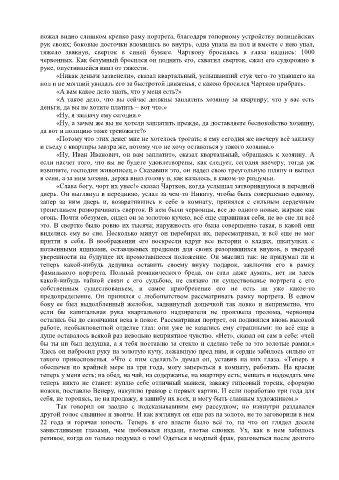Page 39 - Петербурские повести
P. 39
пожал видно слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских
рук своих; боковые досточки вломились во внутрь, одна упала на пол и вместе с нею упал,
тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: 1000
червонных. Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в
руке, опустившейся вниз от тяжести.
«Никак деньги зазвенели», сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на
пол и не могший увидать его за быстротой движенья, с какою бросился Чартков прибрать.
«А вам какое дело знать, что у меня есть?»
«А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть
деньги, да вы не хотите платить – вот что.»
«Ну, я заплачу ему сегодня.»
«Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину,
да вот и полицию тоже тревожите?»
«Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру всё заплачу
и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.»
«Ну, Иван Иванович, он вам заплатит», сказал квартальный, обращаясь к хозяину. А
если насчет того, что вы не будете удовлетворены, как следует, сегодня ввечеру, тогда уж
извините, господин живописец.» Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел
в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумьи.
«Слава богу, чорт их унес!» сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней
дверь. Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному,
запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным
трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие как
огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, всё еще спрашивая себя, не во сне ли всё
это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они
виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и всё еще не мог
притти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с
потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой
уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: не придумал ли и
теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку
фамильного портрета. Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь
какой-нибудь тайной связи с его судьбою, не связано ли существованье портрета с его
собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то
предопределение. Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном
боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что
если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы
остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой
работе, необыкновенной отделке глаз: они уже не казались ему страшными: но всё еще в
душе оставалось всякой раз невольно неприятное чувство. «Нет», сказал он сам в себе: «чей
бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки.»
Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от
такого прикосновенья. «Что с ним сделать?» думал он, уставив на них глаза. «Теперь я
обеспечен по крайней мере на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски
теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне
теперь никто не станет: куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую
ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для
себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником.»
Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но извнутри раздавался
другой голос слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем
22 года и горячая юность. Теперь в его власти было всё то, на что он глядел доселе
завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось
ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого