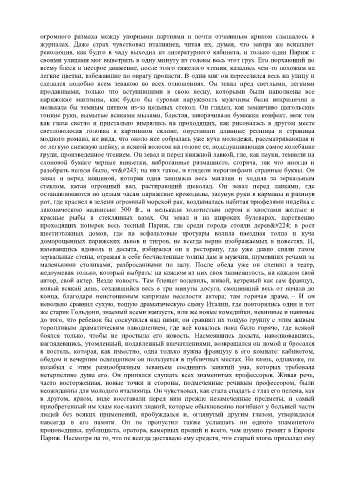Page 95 - Петербурские повести
P. 95
огромного размаха между упорными партиями и почти отчаянным криком слышалось в
журналах. Даже страх чувствовал италиянец, читая их, думая, что завтра же вспыхнет
революция, как будто в чаду выходил из литературного кабинета, и только один Париж с
своими улицами мог выветрить в одну минуту из головы весь этот груз. Его порхающий по
всему блеск и пестрое движение, после этого тяжелого чтения, казались чем-то похожим на
легкие цветки, взбежавшие по оврагу пропасти. В один миг он переселялся весь на улицу и
сделался подобно всем зевакою во всех отношениях. Он зевал пред светлыми, легкими
продавицами, только что вступившими в свою весну, которыми были наполнены все
парижские магазины, как будто бы суровая наружность мужчины была неприлична и
мелькала бы темным пятном из-за цельных стекол. Он глядел, как заманчиво щегольские
тонкие руки, вымытые всякими мылами, блистая, заворачивали бумажки конфект, меж тем
как глаза светло и пристально вперялись на проходящих, как рисовалась в другом месте
светловолосая головка в картинном склоне, опустивши длинные ресницы в страницы
модного романа, не видя, что около нее собралась уже куча молодежи, рассматривающая и
ее легкую снежную шейку, и всякой волосок на голове ее, подслушивающая самое колебание
груди, произведенное чтением. Он зевал и перед книжной лавкой, где, как пауки, темнели на
слоновой бумаге черные виньетки, набросанные размашисто, сгоряча, так что иногда и
разобрать нельзя было, чтó на них такое, и глядели иероглифами странные буквы. Он
зевал и перед машиной, которая одна занимала весь магазин и ходила за зеркальным
стеклом, катая огромный вал, растирающий шеколад. Он зевал перед лавками, где
останавливаются по целым часам парижские крокодилы, засунув руки в карманы и разинув
рот, где краснел в зелени огромный морской рак, воздымалась набитая трюфелями индейка с
лаконическою надписью: 300 fr., и мелькали золотистым пером и хвостами желтые и
красные рыбы в стеклянных вазах. Он зевал и на широких булеварах, царственно
проходящих поперек весь тесный Париж, где среди города стояли деревà в рост
шестиэтажных домов, где на асфальтовые тротуары валила наездная толпа и куча
доморощенных парижских львов и тигров, не всегда верно изображаемых в повестях. И,
назевавшись вдоволь и досыта, взбирался он к ресторану, где уже давно сияли газом
зеркальные стены, отражая в себе бесчисленные толпы дам и мужчин, шумевших речами за
маленькими столиками, разбросанными по залу. После обеда уже он спешил в театр,
недоумевая только, который выбрать: на каждом из них своя знаменитость, на каждом свой
автор, свой актер. Везде новость. Там блещет водевиль, живой, ветреный как сам француз,
новый всякий день, создавшийся весь в три минуты досуга, смешивший весь от начала до
конца, благодаря неистощимым капризам веселости актера; там горячая драма. – И он
невольно сравнил сухую, тощую драматическую сцену Италии, где повторялись один и тот
же старик Гольдони, знаемый всеми наизусть, или же новые комедийки, невинные и наивные
до того, что ребенок бы соскучился над ними; он сравнил их тощую группу с этим живым
торопливым драматическим наводнением, где всё ковалось пока было горячо, где всякой
боялся только, чтобы не простыла его новость. Насмеявшись досыта, наволновавшись,
наглядевшись, утомленный, подавленный впечатлениями, возвращался он домой и бросался
в постель, которая, как известно, одна только нужна французу в его комнате: кабинетом,
обедом и вечерним освещением он пользуется в публичных местах. Но князь, однакоже, не
позабыл с этим разнообразным зеваньем соединить занятий ума, которых требовала
нетерпеливо душа его. Он принялся слушать всех знаменитых профессоров. Живая речь,
часто восторженная, новые точки и стороны, подмеченные речивым профессором, были
неожиданны для молодого италиянца. Он чувствовал, как стала спадать с глаз его пелена, как
в другом, ярком, виде восставали перед ним прежде незамеченные предметы, и самый
приобретенный им хлам кое-каких знаний, которые обыкновенно погибают у большей части
людей без всяких применений, пробуждался и, оглянутый другим глазом, утверждался
навсегда в его памяти. Он не пропустил также услышать ни одного знаменитого
проповедника, публициста, оратора, камерных прений и всего, чем шумно гремит в Европе
Париж. Несмотря на то, что не всегда доставало ему средств, что старый князь присылал ему