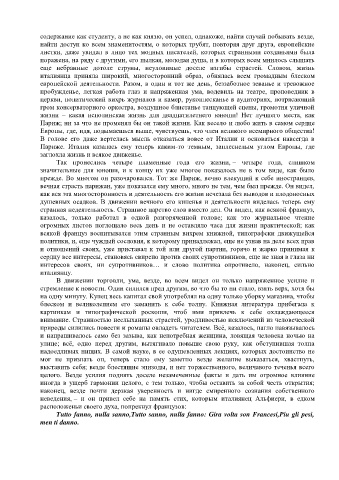Page 96 - Петербурские повести
P. 96
содержание как студенту, а не как князю, он успел, однакоже, найти случай побывать везде,
найти доступ ко всем знаменитостям, о которых трубят, повторяя друг друга, европейские
листки, даже увидал в лицо тех модных писателей, которых странными созданьями была
поражена, на ряду с другими, его пылкая, молодая душа, и в которых всем мнилось слышать
еще небранные дотоле струны, неуловимые доселе изгибы страстей. Словом, жизнь
италиянца приняла широкий, многосторонний образ, обнялась всем громадным блеском
европейской деятельности. Разом, в один и тот же день, беззаботное зеванье и тревожное
пробужденье, легкая работа глаз и напряженная ума, водевиль на театре, проповедник в
церкви, политический вихрь журналов и камер, рукоплесканье в аудиториях, потрясающий
гром консерваторного оркестра, воздушное блистанье танцующей сцены, громотня уличной
жизни – какая исполинская жизнь для двадцатилетнего юноши! Нет лучшего места, как
Париж; ни за что не променял бы он такой жизни. Как весело и любо жить в самом сердце
Европы, где, идя, подымаешься выше, чувствуешь, что член великого всемирного общества!
В голове его даже вертелась мысль отказаться вовсе от Италии и основаться навсегда в
Париже. Италия казалась ему теперь каким-то темным, заплеснелым углом Европы, где
заглохла жизнь и всякое движенье.
Так пронеслись четыре пламенные года его жизни, – четыре года, слишком
значительные для юноши, и к концу их уже многое показалось не в том виде, как было
прежде. Во многом он разочаровался. Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев,
вечная страсть парижан, уже показался ему много, много не тем, чем был прежде. Он видел,
как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезала без выводов и плодоносных
душевных осадков. В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему
странная недеятельность. Страшное царство слов вместо дел. Он видел, как всякой француз,
казалось, только работал в одной разгоряченной голове; как это журнальное чтение
огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как
всякой француз воспитывался этим странным вихрем книжной, типографски движущейся
политики, и, еще чуждый сословия, к которому принадлежал, еще не узнав на деле всех прав
и отношений своих, уже приставал к той или другой партии, горячо и жарко принимая к
сердцу все интересы, становясь свирепо против своих супротивников, еще не зная в глаза ни
интересов своих, ни супротивников… и слово политика опротивело, наконец, сильно
италиянцу.
В движении торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и
стремление к новости. Один силился пред другим, во что бы то ни стало, взять верх, хотя бы
на одну минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы
блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к
картинкам и типографической роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся
внимание. Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой
природы силились повести и романы овладеть читателем. Всё, казалось, нагло навязывалось
и напрашивалось само без зазыва, как непотребная женщина, ловящая человека ночью на
улице; всё, одно перед другим, вытягивало повыше свою руку, как обступившая толпа
надоедливых нищих. В самой науке, в ее одушевленных лекциях, которых достоинство не
мог не признать он, теперь стало ему заметно везде желание выказаться, хвастнуть,
выставить себя; везде блестящие эпизоды, и нет торжественного, величавого теченья всего
целого. Везде усилия поднять доселе незамеченные факты и дать им огромное влияние
иногда в ущерб гармонии целого, с тем только, чтобы оставить за собой честь открытия;
наконец, везде почти дерзкая уверенность и нигде смиренного сознания собственного
неведения, – и он привел себе на память стих, которым италиянец Альфиери, в едком
расположеньи своего духа, попрекнул французов:
Tutto fanno, nulla sanno,Tutto sanno, nulla fanno: Gira volta son Francesi,Piu gli pesi,
men ti danno.