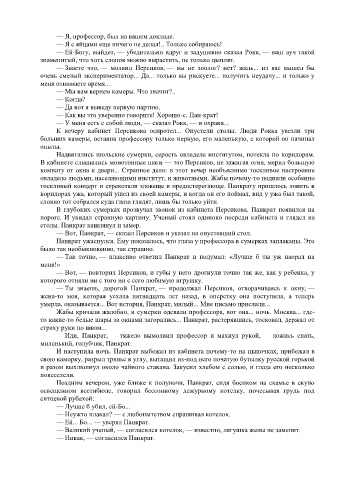Page 25 - Роковые яйца
P. 25
— Я, профессор, был на вашем докладе.
— Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только собираюсь!
— Ей-Богу, выйдет, — убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, — ваш луч такой
знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.
— Знаете что, — молвил Персиков, — вы не зоолог? нет? жаль... из вас вышел бы
очень смелый экспериментатор... Да... только вы рискуете... получить неудачу... и только у
меня отнимаете время...
— Мы вам вернем камеры. Что значит?..
— Когда?
— Да вот я выведу первую партию.
— Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Пан-крат!
— У меня есть с собой люди, — сказал Рокк, — и охрана...
К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустели столы. Люди Рокка увезли три
больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал
опыты.
Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам.
В кабинете слышались монотонные шаги — это Персиков, не зажигая огня, мерил большую
комнату от окна к двери... Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение
овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно
тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в
коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он его поймал, вид у ужа был такой,
словно тот собрался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.
В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на
пороге. И увидал странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на
столы. Панкрат кашлянул и замер.
— Вот, Панкрат, — сказал Персиков и указал на опустевший стол.
Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это
было так необыкновенно, так страшно.
— Так точно, — плаксиво ответил Панкрат и подумал: «Лучше б ты уж наорал на
меня!»
— Вот, — повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у
которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку.
— Ты знаешь, дорогой Панкрат, — продолжал Персиков, отворачиваясь к окну, —
жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь
умерла, оказывается... Вот история, Панкрат, милый... Мне письмо прислали...
Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она... ночь. Москва... где-
то какие-то белые шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от
страху руки по швам...
— Иди, Панкрат, — тяжело вымолвил профессор и махнул рукой, — ложись спать,
миленький, голубчик, Панкрат.
И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в
свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой
и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько
повеселели.
Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо
освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под
ситцевой рубахой:
— Лучше б убил, ей-Бо...
— Неужто плакал? — с любопытством спрашивал котелок.
— Ей... Бо... — уверял Панкрат.
— Великий ученый, — согласился котелок, — известно, лягушка жены не заменит.
— Никак, — согласился Панкрат.