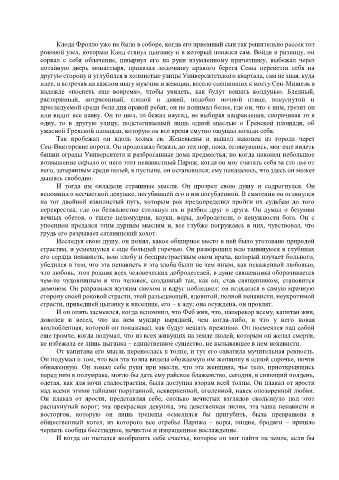Page 190 - Собор Парижской Богоматери
P. 190
Клода Фролло уже не было в соборе, когда его приемный сын так решительно рассек тот
роковой узел, которым Клод стянул цыганку и в который попался сам. Войдя в ризницу, он
сорвал с себя облачение, швырнул его на руки изумленному причетнику, выбежал через
потайную дверь монастыря, приказал лодочнику правого берега Сены перевезти себя на
другую сторону и углубился в холмистые улицы Университетского квартала, сам не зная, куда
идет, и встречая на каждом шагу мужчин и женщин, весело спешивших к мосту Сен-Мишель в
надежде «поспеть еще вовремя», чтобы увидеть, как будут вешать колдунью. Бледный,
растерянный, потрясенный, слепой и дикий, подобно ночной птице, вспугнутой и
преследуемой среди бела дня оравой ребят, он не понимал более, где он, что с ним, грезит он
или видит все наяву. Он то шел, то бежал наугад, не выбирая направления, сворачивая то в
одну, то в другую улицу, подстегиваемый лишь одной мыслью о Гревской площади, об
ужасной Гревской площади, которую он все время смутно ощущал позади себя.
Так пробежал он вдоль холма св. Женевьевы и вышел наконец из города через
Сен-Викторские ворота. Он продолжал бежать до тех пор, пока, оглянувшись, мог еще видеть
башни ограды Университета и разбросанные дома предместья; но когда наконец небольшое
возвышение скрыло от него этот ненавистный Париж, когда он мог считать себя за сто лье от
него, затерянным среди полей, в пустыне, он остановился; ему показалось, что здесь он может
дышать свободно.
И тогда им овладели страшные мысли. Он прозрел свою душу и содрогнулся. Он
вспомнил о несчастной девушке, погубившей его и им погубленной. В смятении он оглянулся
на тот двойной извилистый путь, которым рок предопределил пройти их судьбам до того
перекрестка, где он безжалостно столкнул их и разбил друг о друга. Он думал о безумии
вечных обетов, о тщете целомудрия, науки, веры, добродетели, о ненужности бога. Он с
упоением предался этим дурным мыслям и, все глубже погружаясь в них, чувствовал, что
грудь его разрывает сатанинский хохот.
Исследуя свою душу, он понял, какое обширное место в ней было уготовано природой
страстям, и усмехнулся с еще большей горечью. Он разворошил всю таившуюся в глубинах
его сердца ненависть, всю злобу и беспристрастным оком врача, который изучает больного,
убедился в том, что эта ненависть и эта злоба были не чем иным, как искаженной любовью,
что любовь, этот родник всех человеческих добродетелей, в душе священника оборачивается
чем-то чудовищным и что человек, созданный так, как он, став священником, становится
демоном. Он разразился жутким смехом и вдруг побледнел: он вгляделся в самую мрачную
сторону своей роковой страсти, этой разъедающей, ядовитой, полной ненависти, неукротимой
страсти, приведшей цыганку к виселице, его – к аду; она осуждена, он проклят.
И он опять засмеялся, когда вспомнил, что Феб жив, что, наперекор всему, капитан жив,
доволен и весел, что на нем мундир нарядней, чем когда-либо, и что у него новая
возлюбленная, которой он показывал, как будут вешать прежнюю. Он посмеялся над собой
еще громче, когда подумал, что из всех живущих на земле людей, которым он желал смерти,
не избежала ее лишь цыганка – единственное существо, не вызывавшее в нем ненависти.
От капитана его мысль перенеслась к толпе, и тут его охватила мучительная ревность.
Он подумал о том, что вся эта толпа видела обожаемую им женщину в одной сорочке, почти
обнаженную. Он ломал себе руки при мысли, что эта женщина, чье тело, приоткрывшись
перед ним в полумраке, могло бы дать ему райское блаженство, сегодня, в сияющий полдень,
одетая, как для ночи сладострастия, была доступна взорам всей толпы. Он плакал от ярости
над всеми этими тайнами поруганной, оскверненной, оголенной, навек опозоренной любви.
Он плакал от ярости, представляя себе, сколько нечистых взглядов скользнуло под этот
распахнутый ворот; эта прекрасная девушка, эта девственная лилия, эта чаша ненависти и
восторгов, которую он лишь трепеща осмелился бы пригубить, была превращена в
общественный котел, из которого все отребье Парижа – воры, нищие, бродяги – пришло
черпать сообща бесстыдное, нечистое и извращенное наслаждение.
И когда он пытался вообразить себе счастье, которое он мог найти на земле, если бы