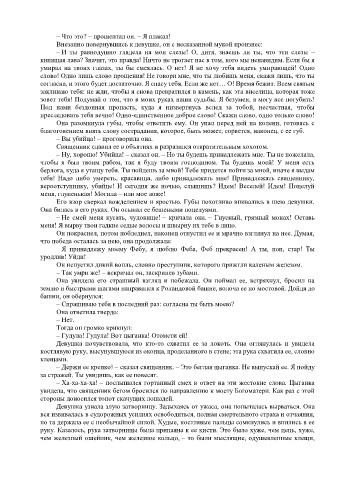Page 254 - Собор Парижской Богоматери
P. 254
– Что это? – прошептал он. – Я плакал!
Внезапно повернувшись к девушке, он с несказанной мукой произнес:
– И ты равнодушно глядела на мои слезы! О, дитя, знаешь ли ты, что эти слезы –
кипящая лава? Значит, это правда! Ничто не трогает нас в том, кого мы ненавидим. Если бы я
умирал на твоих глазах, ты бы смеялась. О нет! Я не хочу тебя видеть умирающей! Одно
слово! Одно лишь слово прощения! Не говори мне, что ты любишь меня, скажи лишь, что ты
согласна, и этого будет достаточно. Я спасу тебя. Если же нет… О! Время бежит. Всем святым
заклинаю тебя: не жди, чтобы я снова превратился в камень, как эта виселица, которая тоже
зовет тебя! Подумай о том, что в моих руках наши судьбы. Я безумен, я могу все погубить!
Под нами бездонная пропасть, куда я низвергнусь вслед за тобой, несчастная, чтобы
преследовать тебя вечно! Одно-единственное доброе слово! Скажи слово, одно только слово!
Она разомкнула губы, чтобы ответить ему. Он упал перед ней на колени, готовясь с
благоговением внять слову сострадания, которое, быть может, сорвется, наконец, с ее губ.
– Вы убийца! – проговорила она.
Священник сдавил ее в объятиях и разразился отвратительным хохотом.
– Ну, хорошо! Убийца! – сказал он. – Но ты будешь принадлежать мне. Ты не пожелала,
чтобы я был твоим рабом, так я буду твоим господином. Ты будешь моей! У меня есть
берлога, куда я утащу тебя. Ты пойдешь за мной! Тебе придется пойти за мной, иначе я выдам
тебя! Надо либо умереть, красавица, либо принадлежать мне! Принадлежать священнику,
вероотступнику, убийце! И сегодня же ночью, слышишь? Идем! Веселей! Идем! Поцелуй
меня, глупенькая! Могила – или мое ложе!
Его взор сверкал вожделением и яростью. Губы похотливо впивались в шею девушки.
Она билась в его руках. Он осыпал ее бешеными поцелуями.
– Не смей меня кусать, чудовище! – кричала она. – Гнусный, грязный монах! Оставь
меня! Я вырву твои гадкие седые волосы и швырну их тебе в лицо.
Он покраснел, потом побледнел, наконец отпустил ее и мрачно взглянул на нее. Думая,
что победа осталась за нею, она продолжала:
– Я принадлежу моему Фебу, я люблю Феба, Феб прекрасен! А ты, поп, стар! Ты
уродлив! Уйди!
Он испустил дикий вопль, словно преступник, которого прижгли каленым железом.
– Так умри же! – вскричал он, заскрипев зубами.
Она увидела его страшный взгляд и побежала. Он поймал ее, встряхнул, бросил на
землю и быстрыми шагами направился к Роландовой башне, волоча ее по мостовой. Дойдя до
башни, он обернулся:
– Спрашиваю тебя в последний раз: согласна ты быть моею?
Она ответила твердо:
– Нет.
Тогда он громко крикнул:
– Гудула! Гудула! Вот цыганка! Отомсти ей!
Девушка почувствовала, что кто-то схватил ее за локоть. Она оглянулась и увидела
костлявую руку, высунувшуюся из оконца, проделанного в стене; эта рука схватила ее, словно
клещами.
– Держи ее крепко! – сказал священник. – Это беглая цыганка. Не выпускай ее. Я пойду
за стражей. Ты увидишь, как ее повесят.
– Ха-ха-ха-ха! – послышался гортанный смех в ответ на эти жестокие слова. Цыганка
увидела, что священник бегом бросился по направлению к мосту Богоматери. Как раз с этой
стороны доносился топот скачущих лошадей.
Девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она попыталась вырваться. Она
вся извивалась в судорожных усилиях освободиться, полная смертельного страха и отчаяния,
но та держала ее с необычайной силой. Худые, костлявые пальцы сомкнулись и впились в ее
руку. Казалось, рука затворницы была припаяна к ее кисти. Это было хуже, чем цепь, хуже,
чем железный ошейник, чем железное кольцо, – то были мыслящие, одушевленные клещи,