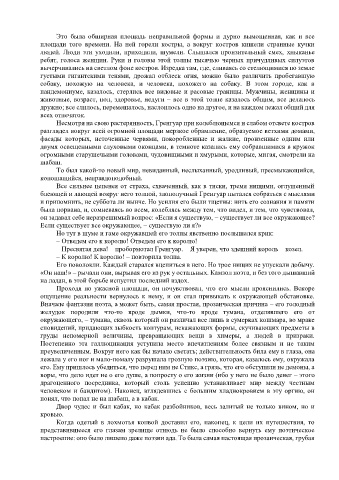Page 42 - Собор Парижской Богоматери
P. 42
Это была обширная площадь неправильной формы и дурно вымощенная, как и все
площади того времени. На ней горели костры, а вокруг костров кишели странные кучки
людей. Люди эти уходили, приходили, шумели. Слышался пронзительный смех, хныканье
ребят, голоса женщин. Руки и головы этой толпы тысячью черных причудливых силуэтов
вычерчивались на светлом фоне костров. Изредка там, где, сливаясь со стелющимися по земле
густыми гигантскими тенями, дрожал отблеск огня, можно было различить пробегавшую
собаку, похожую на человека, и человека, похожего на собаку. В этом городе, как в
пандемониуме, казалось, стерлись все видовые и расовые границы. Мужчины, женщины и
животные, возраст, пол, здоровье, недуги – все в этой толпе казалось общим, все делалось
дружно; все слилось, перемешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом лежал общий для
всех отпечаток.
Несмотря на свою растерянность, Гренгуар при колеблющемся и слабом отсвете костров
разглядел вокруг всей огромной площади мерзкое обрамление, образуемое ветхими домами,
фасады которых, источенные червями, покоробленные и жалкие, пронзенные одним или
двумя освещенными слуховыми оконцами, в темноте казались ему собравшимися в кружок
огромными старушечьими головами, чудовищными и хмурыми, которые, мигая, смотрели на
шабаш.
То был какой-то новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, пресмыкающийся,
копошащийся, неправдоподобный.
Все сильнее цепенея от страха, схваченный, как в тиски, тремя нищими, оглушенный
блеющей и лающей вокруг него толпой, злополучный Гренгуар пытался собраться с мыслями
и припомнить, не суббота ли нынче. Но усилия его были тщетны: нить его сознания и памяти
была порвана, и, сомневаясь во всем, колеблясь между тем, что видел, и тем, что чувствовал,
он задавал себе неразрешимый вопрос: «Если я существую, – существует ли все окружающее?
Если существует все окружающее, – существую ли я?»
Но тут в шуме и гаме окружавшей его толпы явственно послышался крик:
– Отведем его к королю! Отведем его к королю!
– Пресвятая дева! – пробормотал Гренгуар. – Я уверен, что здешний король – козел.
– К королю! К королю! – повторила толпа.
Его поволокли. Каждый старался вцепиться в него. Но трое нищих не упускали добычу.
«Он наш!» – рычали они, вырывая его из рук у остальных. Камзол поэта, и без того дышавший
на ладан, в этой борьбе испустил последний вздох.
Проходя по ужасной площади, он почувствовал, что его мысли прояснились. Вскоре
ощущение реальности вернулось к нему, и он стал привыкать к окружающей обстановке.
Вначале фантазия поэта, а может быть, самая простая, прозаическая причина – его голодный
желудок породили что-то вроде дымки, что-то вроде тумана, отделявшего его от
окружающего, – тумана, сквозь который он различал все лишь в сумерках кошмара, во мраке
сновидений, придающих зыбкость контурам, искажающих формы, скучивающих предметы в
груды непомерной величины, превращающих вещи в химеры, а людей в призраки.
Постепенно эта галлюцинация уступила место впечатлениям более связным и не таким
преувеличенным. Вокруг него как бы начало светать; действительность била ему в глаза, она
лежала у его ног и мало-помалу разрушала грозную поэзию, которая, казалось ему, окружала
его. Ему пришлось убедиться, что перед ним не Стикс, а грязь, что его обступили не демоны, а
воры, что дело идет не о его душе, а попросту о его жизни (ибо у него не было денег – этого
драгоценного посредника, который столь успешно устанавливает мир между честным
человеком и бандитом). Наконец, вглядевшись с большим хладнокровием в эту оргию, он
понял, что попал не на шабаш, а в кабак.
Двор чудес и был кабак, но кабак разбойников, весь залитый не только вином, но и
кровью.
Когда одетый в лохмотья конвой доставил его, наконец, к цели их путешествия, то
представившееся его глазам зрелище отнюдь не было способно вернуть ему поэтическое
настроение: оно было лишено даже поэзии ада. То была самая настоящая прозаическая, грубая