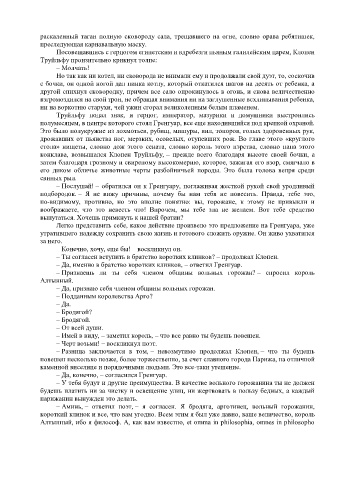Page 45 - Собор Парижской Богоматери
P. 45
раскаленный таган полную сковороду сала, трещавшего на огне, словно орава ребятишек,
преследующая карнавальную маску.
Посовещавшись с герцогом египетским и вдребезги пьяным галилейским царем, Клопен
Труйльфу пронзительно крикнул толпе:
– Молчать!
Но так как ни котел, ни сковорода не внимали ему и продолжали свой дуэт, то, соскочив
с бочки, он одной ногой дал пинка котлу, который откатился шагов на десять от ребенка, а
другой спихнул сковородку, причем все сало опрокинулось в огонь, и снова величественно
взгромоздился на свой трон, не обращая внимания ни на заглушенные всхлипывания ребенка,
ни на воркотню старухи, чей ужин сгорал великолепным белым пламенем.
Труйльфу подал знак, и герцог, император, мазурики и домушники выстроились
полумесяцем, в центре которого стоял Гренгуар, все еще находившийся под крепкой охраной.
Это было полукружие из лохмотьев, рубищ, мишуры, вил, топоров, голых здоровенных рук,
дрожавших от пьянства ног, мерзких, осовелых, отупевших рож. Во главе этого «круглого
стола» нищеты, словно дож этого сената, словно король этого пэрства, словно папа этого
конклава, возвышался Клопен Труйльфу, – прежде всего благодаря высоте своей бочки, а
затем благодаря грозному и свирепому высокомерию, которое, зажигая его взор, смягчало в
его диком обличье животные черты разбойничьей породы. Это была голова вепря среди
свиных рыл.
– Послушай! – обратился он к Гренгуару, поглаживая жесткой рукой свой уродливый
подбородок. – Я не вижу причины, почему бы нам тебя не повесить. Правда, тебе это,
по-видимому, противно, но это вполне понятно: вы, горожане, к этому не привыкли и
воображаете, что это невесть что! Впрочем, мы тебе зла не желаем. Вот тебе средство
выпутаться. Хочешь примкнуть к нашей братии?
Легко представить себе, какое действие произвело это предложение на Гренгуара, уже
утратившего надежду сохранить свою жизнь и готового сложить оружие. Он живо ухватился
за него.
– Конечно, хочу, еще бы! – воскликнул он.
– Ты согласен вступить в братство коротких клинков? – продолжал Клопен.
– Да, именно в братство коротких клинков, – ответил Гренгуар.
– Признаешь ли ты себя членом общины вольных горожан? – спросил король
Алтынный.
– Да, признаю себя членом общины вольных горожан.
– Подданным королевства Арго?
– Да.
– Бродягой?
– Бродягой.
– От всей души.
– Имей в виду, – заметил король, – что все равно ты будешь повешен.
– Черт возьми! – воскликнул поэт.
– Разница заключается в том, – невозмутимо продолжал Клопен, – что ты будешь
повешен несколько позже, более торжественно, за счет славного города Парижа, на отличной
каменной виселице и порядочными людьми. Это все-таки утешение.
– Да, конечно, – согласился Гренгуар.
– У тебя будут и другие преимущества. В качестве вольного горожанина ты не должен
будешь платить ни за чистку и освещение улиц, ни жертвовать в пользу бедных, а каждый
парижанин вынужден это делать.
– Аминь, – ответил поэт, – я согласен. Я бродяга, арготинец, вольный горожанин,
короткий клинок и все, что вам угодно. Всем этим я был уже давно, ваше величество, король
Алтынный, ибо я философ. А, как вам известно, et omma in philosophia, omnes in philosopho