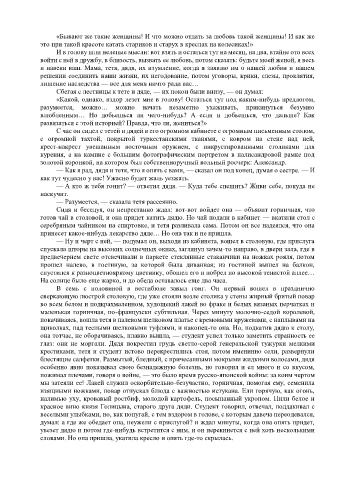Page 25 - Темные аллеи
P. 25
«Бывают же такие женщины! И что можно отдать за любовь такой женщины! И как же
это при такой красоте катать стариков и старух в креслах на колесиках!»
И в голову шли нелепые мысли: вот взять и остаться тут на месяц, на два, втайне ото всех
войти с ней в дружбу, в близость, вызвать ее любовь, потом сказать: будьте моей женой, я весь
и навеки ваш. Мама, тетя, дядя, их изумление, когда я заявлю им о нашей любви и нашем
решении соединить наши жизни, их негодование, потом уговоры, крики, слезы, проклятия,
лишение наследства — все для меня ничто ради вас…
Сбегая с лестницы к тете и дяде, — их покои были внизу, — он думал:
«Какой, однако, вздор лезет мне в голову! Остаться тут под каким-нибудь предлогом,
разумеется, можно… можно начать незаметно ухаживать, прикинуться безумно
влюбленным… Но добьешься ли чего-нибудь? А если и добьешься, что дальше? Как
развязаться с этой историей? Правда, что ли, жениться?»
С час он сидел с тетей и дядей в его огромном кабинете с огромным письменным столом,
с огромной тахтой, покрытой туркестанскими тканями, с ковром на стене над ней,
крест-накрест увешанным восточным оружием, с инкрустированными столиками для
курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой рамке под
золотой коронкой, на котором был собственноручный вольный росчерк: Александр.
— Как я рад, дядя и тетя, что я опять с вами, — сказал он под конец, думая о сестре. — И
как тут чудесно у вас! Ужасно будет жаль уезжать.
— А кто ж тебя гонит? — ответил дядя. — Куда тебе спешить? Живи себе, покуда не
наскучит.
— Разумеется, — сказала тетя рассеянно.
Сидя и беседуя, он непрестанно ждал: вот-вот войдет она — объявит горничная, что
готов чай в столовой, и она придет катить дядю. Но чай подали в кабинет — вкатили стол с
серебряным чайником на спиртовке, и тетя разливала сама. Потом он все надеялся, что она
принесет какое-нибудь лекарство дяде… Но она так и не пришла.
— Ну и черт с ней, — подумал он, выходя из кабинета, вошел в столовую, где прислуга
спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо, в двери зала, где в
предвечернем свете отсвечивали в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля, потом
прошел налево, в гостиную, за которой была диванная; из гостиной вышел на балкон,
спустился к разноцветнояркому цветнику, обошел его и побрел по высокой тенистой аллее…
На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще два часа.
В семь с половиной в вестибюле завыл гонг. Он первый вошел в празднично
сверкающую люстрой столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар
во всем белом и подкрахмаленном, худощекий лакей во фраке и белых вязаных перчатках и
маленькая горничная, по-французски субтильная. Через минуту молочно-седой королевой,
покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на
щиколках, над тесными шелковыми туфлями, и наконец-то она. Но, подкатив дядю к столу,
она тотчас, не оборачиваясь, плавно вышла, — студент успел только заметить странность ее
глаз: они не моргали. Дядя покрестил грудь светло-серой генеральской тужурки мелкими
крестиками, тетя и студент истово перекрестились стоя, потом именинно сели, развернули
блестящие салфетки. Размытый, бледный, с причесанными мокрыми жидкими волосами, дядя
особенно явно показывал свою безнадежную болезнь, но говорил и ел много и со вкусом,
пожимал плечами, говоря о войне, — это было время русско-японской войны: за коим чертом
мы затеяли ее! Лакей служил оскорбительно-безучастно, горничная, помогая ему, семенила
изящными ножками, повар отпускал блюда с важностью истукана. Ели горячую, как огонь,
налимью уху, кровавый ростбиф, молодой картофель, посыпанный укропом. Пили белое и
красное вино князя Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, поддакивал с
веселыми улыбками, но, как попугай, с тем вздором в голове, с которым давеча переодевался,
думал: а где же обедает она, неужели с прислугой? и ждал минуты, когда она опять придет,
увезет дядю и потом где-нибудь встретится с ним, и он перекинется с ней хоть несколькими
словами. Но она пришла, укатила кресло и опять где-то скрылась.