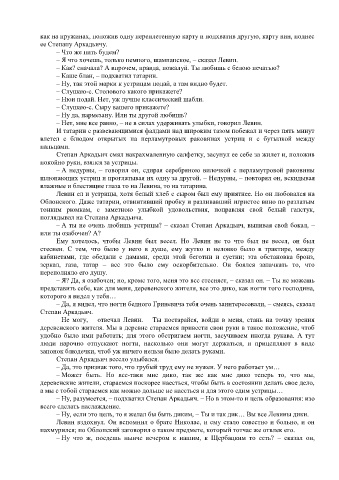Page 22 - Анна Каренина
P. 22
как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес
ее Степану Аркадьичу.
– Что же пить будем?
– Я что хочешь, только немного, шампанское, – сказал Левин.
– Как? сначала? А впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белою печатью?
– Каше блан, – подхватил татарин.
– Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет.
– Слушаю-с. Столового какого прикажете?
– Нюи подай. Нет, уж лучше классический шабли.
– Слушаю-с. Сыру вашего прикажете?
– Ну да, пармезану. Или ты другой любишь?
– Нет, мне все равно, – не в силах удерживать улыбки, говорил Левин.
И татарин с развевающимися фалдами над широким тазом побежал и через пять минут
влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между
пальцами.
Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив
покойно руки, взялся за устрицы.
– А недурны, – говорил он, сдирая серебряною вилочкой с перламутровой раковины
шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. – Недурны, – повторял он, вскидывая
влажные и блестящие глаза то на Левина, то на татарина.
Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на
Облонского. Даже татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым
тонким рюмкам, с заметною улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук,
поглядывал на Степана Аркадьича.
– А ты не очень любишь устрицы? – сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, –
или ты озабочен? А?
Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был
стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между
кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни; эта обстановка бронз,
зеркал, газа, татар – все это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что
переполняло его душу.
– Я? Да, я озабочен; но, кроме того, меня это все стесняет, – сказал он. – Ты не можешь
представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти того господина,
которого я видел у тебя…
– Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, – смеясь, сказал
Степан Аркадьич.
– Не могу, – отвечал Левин. – Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения
деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб
удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут
люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде
запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками.
Степан Аркадьич весело улыбался.
– Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум…
– Может быть. Но все-таки мне дико, так же как мне дико теперь то, что мы,
деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело,
а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы…
– Ну, разумеется, – подхватил Степан Аркадьич. – Но в этом-то и цель образования: изо
всего сделать наслаждение.
– Ну, если это цель, то я желал бы быть диким, – Ты и так дик… Вы все Левины дики.
Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, и ему стало совестно и больно, и он
нахмурился; но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлек его.
– Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? – сказал он,