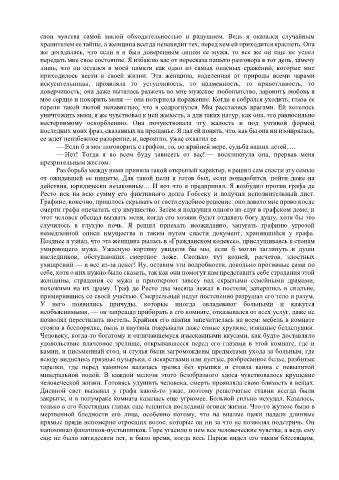Page 27 - Гобсек
P. 27
свои чувства самой милой обходительностью и радушием. Ведь я оказался случайным
хранителем ее тайны, а женщина всегда ненавидит тех, перед кем ей приходится краснеть. Она
же догадалась, что если я и был доверенным лицом ее мужа, то все же он еще не успел
передать мне свое состояние. Я избавлю вас от пересказа нашего разговора в тот день, замечу
лишь, что он остался в моей памяти как одно из самых опасных сражений, которые мне
приходилось вести в своей жизни. Эта женщина, наделенная от природы всеми чарами
искусительницы, проявляла то уступчивость, то надменность, то приветливость, то
доверчивость; она даже пыталась разжечь во мне мужское любопытство, заронить любовь в
мое сердце и покорить меня — она потерпела поражение. Когда я собрался уходить, глаза ее
горели такой лютой ненавистью, что я содрогнулся. Мы расстались врагами. Ей хотелось
уничтожить меня, я же чувствовал к ней жалость, а для таких натур, как она, это равносильно
нестерпимому оскорблению. Она почувствовала эту жалость и под учтивой формой
последних моих фраз, сказанных на прощанье. Я дал ей понять, что, как бы она ни изощрялась,
ее ждет неизбежное разорение, и, вероятно, ужас охватил ее.
— Если б я мог поговорить с графом, то, по крайней мере, судьба ваших детей….
— Нет! Тогда я во всем буду зависеть от вас! — воскликнула она, прервав меня
презрительным жестом.
Раз борьба между нами приняла такой открытый характер, я решил сам спасти эту семью
от ожидавшей ее нищеты. Для такой цели я готов был, если понадобится, пойти даже на
действия, юридически незаконные… И вот что я предпринял. Я возбудил против графа де
Ресто иск на всю сумму его фиктивного долга Гобсеку и получил исполнительный лист.
Графине, конечно, пришлось скрывать от света судебное решение: оно давало мне право после
смерти графа опечатать его имущество. Затем я подкупил одного из слуг в графском доме, и
этот человек обещал вызвать меня, когда его хозяин будет отдавать богу душу, хотя бы это
случилось в глухую ночь. Я решил приехать неожиданно, запугать графиню угрозой
немедленной описи имущества и таким путем спасти документ, хранившийся у графа.
Позднее я узнал, что эта женщина рылась в «Гражданском кодексе», прислушиваясь к стонам
умирающего мужа. Ужасную картину увидели бы мы, если б могли заглянуть в души
наследников, обступающих смертное ложе. Сколько тут козней, расчетов, злостных
ухищрений — и все из-за денег! Ну, оставим эти подробности, довольно противные сами по
себе, хотя о них нужно было сказать, так как они помогут нам представить себе страдания этой
женщины, страдания ее мужа и приоткроют завесу над скрытыми семейными драмами,
похожими на их драму. Граф де Ресто два месяца лежал в постели, запершись в спальне,
примирившись со своей участью. Смертельный недуг постепенно разрушал его тело и разум.
У него появились причуды, которые иногда овладевают больными и кажутся
необъяснимыми, — он запрещал прибирать в его комнате, отказывался от всех услуг, даже не
позволял перестилать постель. Крайняя его апатия запечатлелась на всем: мебель в комнате
стояла в беспорядке, пыль и паутина покрывали даже самые хрупкие, изящные безделушки.
Человеку, когда-то богатому и отличавшемуся изысканными вкусами, как будто доставляло
удовольствие плачевное зрелище, открывавшееся перед его глазами в этой комнате, где и
камин, и письменный стол, и стулья были загромождены предметами ухода за больным, где
всюду виднелись грязные пузырьки, с лекарствами или пустые, разбросанное белье, разбитые
тарелки, где перед камином валялась грелка без крышки и стояла ванна с невылитой
минеральной водой. В каждой мелочи этого безобразного хаоса чувствовалось крушение
человеческой жизни. Готовясь удушить человека, смерть проявляла свою близость в вещах.
Дневной свет вызывал у графа какой-то ужас, поэтому решетчатые ставни всегда были
закрыты, и в полумраке комната казалась еще угрюмее. Больной сильно исхудал. Казалось,
только в его блестящих глазах еще теплится последний огонек жизни. Что-то жуткое было в
мертвенной бледности его лица, особенно потому, что на впалые щеки падали длинные
прямые пряди непомерно отросших волос, которые он ни за что не позволял подстричь. Он
напоминал фанатиков-пустынников. Горе угасило в нем все человеческие чувства; а ведь ему
еще не было пятидесяти лет, и было время, когда весь Париж видел его таким блестящим,